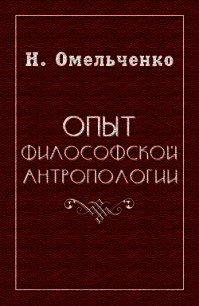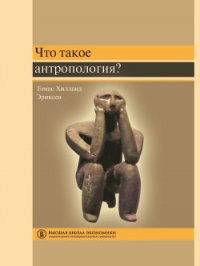Первые принципы философской антропологии - Омельченко Николай Викторович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
В этой связи рассмотрим литературный образ, о котором упоминает Э. Фромм в «Искусстве любить». Здесь он, в частности, пишет о том, что уважать человека невозможно, не понимая его. Существуют различные уровни знания, но самым глубоким является то, которое основано на любви к человеку. Подобное знание обретаешь, если сможешь «увидеть другого с позиции его собственных интересов». Такое знание проникает в самую суть человека. К примеру, если человек рассержен, мы, относясь к нему с любовью, поймем, что он «не столько сердится, сколько страдает» (см. Фромм 1992, 125).
Согласно Фромму, помимо познания, основанного на любви, существует иной способ постичь тайну человеческой души. Этот способ связан с неограниченной властью над другим человеком, со стремлением превратить его в свою вещь, свою собственность. Крайнее проявление подобной склонности — садизм: желание и способность мучить, причинять другому человеку страдания, пытать его, чтобы заставить в муках выдать свою тайну. Фромм подчеркивает: «И в этом страстном желании проникнуть в тайну человека, а значит, и в тайну собственного „Я“— одна из главных причин жестокости и стремления к разрушению» (Фромм 1992, 125). Далее в качестве иллюстрации, точно выражающей эту мысль, приводится фрагмент рассказа «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча» из «Конармии» Исаака Бабеля.
По версии психоаналитика, этот участник гражданской войны в России был обыкновенным садистом, он затоптал до смерти своего бывшего барина и говорил: «Стрельбой, я так выскажу, от человека только отделаться можно… стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть…» (см. Фромм 1992, 126).
Чтобы дать более полную оценку этой ожесточенной душе, нужно иметь в виду прежнюю жизнь Матвея Павличенки (см. Бабель 1991, 55–60). Он был пастухом у барина Никитинского и пас барину сначала свиней, а затем рогатую скотину. Коровами со всех сторон обставился, и молоком навылет его прохватило; ужасное дело, как молоком вонял. А когда явился к Насте, своей будущей жене, то признался, что сердце его «от всего пустое». С Настей жили хорошо, но до той поры, пока ему не сообщили, что барин давеча жену его «за все места трогал».
В тот день Матвей обошел ногами двадцать верст земли, большой кусок земли обошел и вечером вырос в усадьбе своего веселого барина Никитинского, попросил расчета. Старикашка не только горделиво признался ему: «Я мамашей ваших, православные христиане, всех тараканил», — но и припомнил сломанное ярмо от быков. Стоял пастух на коленях «ниже всякой земной низины» и обещал ярмо отдать. Пять годов барин на нем долги ждал, покуда к Павличенки «не прибыл в гости восемнадцатый годок». Чувства бунтующего человека были просты и понятны: «И эх, люба ж ты моя, восемнадцатый годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок…».
Однажды конармейцу Матвею Родионычу выпал случай наведаться к своему барину. Не мог он проехать мимо, у него «щека одна пять годков горит, в окопе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет». Очень испугался Никитинский своего бывшего холопа, откупиться хотел. Но не взял денег восставший раб и стрелять в барина не стал. Он не знал, что со своей горящей щекой делать. И тогда он «потоптал барина».
Теперь, зная curriculum vitae Павличенки, спросим еще раз: был ли садистом Матвей Родионыч? Если посмотреть на бунтующего пастуха, как предлагает Э. Фромм, «с позиции его собственных интересов», то мы поймем, что он «не столько сердится, сколько страдает». Такой подход, совершенно справедливо считает психоаналитик, проникает в самую суть человека.
Если все же признать конармейца садистом, то возникает другой вопрос: кто в этом виноват? Ответ напрашивается сам собой: барин-садист, который годами издевался над своими работниками. Именно господа Никитинские взращивают ожесточенных бунтовщиков. Именно такие господа отнимают у людей все человеческое, оставляя им полумертвое существование и улыбку Сизифа. Прежде всего они ответственны за абсурдное состояние мира.
Конечно, Альбер Камю прав, призывая мятежный дух соблюдать меру в своем протесте. Однако критика безмерности в человеческих мыслях и поступках должна касаться не только восставших рабов, но и их хозяев. Бунтовщик, приверженный принципу меры, не приведет к власти новых господ и не учредит новый абсурд. Постижение меры чрезвычайно важно для тех, кто стремится укротить абсурд, обрести свободу и справедливость. Тайна меры доступна лишь бунтующему человеку.
ж) Некоторые выводы
Итак, результат анализа исходных постулатов классической теории абсурда можно резюмировать в следующих выводах. Во-первых, феномен Сизифа обусловлен неподвижностью разума. Изменение положения человека в мире связано с эволюцией его интеллекта. Именно развитие самостоятельного мышления обеспечивает постижение и, следовательно, прекращение абсурда. Осознание абсурда есть первое условие его преодоления. Исследование абсурда — начало сопротивления ему. Вот почему покушение на мысль является обычной практикой господствующего абсурда. Его идеал — homo non-sapiens.
Во-вторых, Сизиф — это символ отчужденного существа. В условиях абсурда даже суверенно мыслящие личности, если они остаются изолированными единицами, трансформируются в Сизифов. Протестующие в душе одиночки, но на деле исправно выполняющие волю абсурда, ничего в сущности не меняют в бессмысленном мире; напротив, они увековечивают абсурд. Абсурд может быть вполне доволен таким «несоглашающимся» поведением атомизированных интеллектуалов. Как говорил Фридрих Великий, «рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, только повинуйтесь!».
Реальную, а не потешную угрозу власти абсурда составляют индивиды, объединенные для совместной борьбы с ним. Абсурд это прекрасно понимает и потому видит свою задачу в том, чтобы культивировать отчужденность людей и их вражду между собой.
Преодолевая свое отчуждение, люди снимают с себя одежды Сизифа. Имеются основания полагать, что оптимальные условия человеческого бытия связаны с автономией личности и ее единством с окружающим миром. Этот принцип у Вл. Соловьева получил название третьей силы исторического развития (см. Соловьев 1990а, 43, 55–56), у Э. Фромма выражается понятием «любовь» (см., например, Фромм 1988, 452).
В-третьих, приходится признать, что нередко сам человек является со-творцом абсурда. Его соавторство начинается, в частности, тогда, когда в нем вспыхивает неуемная жажда абсолюта. Например, ставит человек перед собой идеал абсолютной истины, добра или свободы. Затем во что бы то ни стало стремится достичь своих абсолютных целей, не пренебрегая по пути «абсолютными» аргументами грубой силы. При этом люди, как правило, совершенно не принимают во внимание, что полное исчерпание Абсолюта означало бы наступление великого Ничто. Кто требует исчерпаемого абсолюта, тот требует в конечном счете ничто.
Бесконечная природа не терпит конечных абсолютов, и потому, высвечивая перед интеллектом слово «Абсурд», она предлагает задуматься человеку над его непомерными претензиями. Своим предупреждением Космос дает понять, что принцип «все или ничего» скрывает формулу «все есть ничто». Таким образом, если человек действительно собирается избавиться от абсурда, то ему прежде всего следует успокоиться и снять свое требование абсолюта. Эта экзистенциальная процедура не займет много времени и сил, но приблизит к истине, к подлинным метафизическим основаниям бытия.
В-четвертых, Сизиф — это механический индивид, он не знает человеческого творчества. Примитивное бытие людей поддерживает абсурд, их творчество преодолевает его. Творчество есть фактор спасения человека, поскольку наделяет его «долей бессмертия и вечности». Человек есть homo creans. Поэтому можно полагать, что он представляет собой единство конечного и бесконечного, смертного и бессмертного.