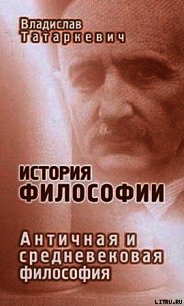Эмпедокл - Семушкин Анатолий Васильевич (книги хорошего качества .TXT) 📗
Таким же нетипичным был и пифагорейский демократизм. На первый взгляд не может быть ничего общего между народом и кучкой умствующих отшельников, убежденных в том, что «все люди дурны» (3, 280). И все же между пифагорейством и демосом не было непроходимой грани Высокая нравственность, образованность, бескорыстие пифагорейцев пользовались в Элладе популярностью, и народ иногда искал себе руководителей в пифагорейской среде. Например, жители г. Тарента поклонялись пифагорейцу Архиту как святому: плененные его «совершенством во всех отношениях», они (в обход законов) семь раз избирали его своим вождем (см. 3, 250). Нечто подобное мы видим и в случае с Эмпедоклом.
В общем народной симпатии к пифагорейцам можно найти объяснение. Само пифагорейство по существу вышло из народной религиозно-культурной жизни; его генеалогия восходит к древнейшим и народным в своей основе душевно-очистительным культам, в частности к дионисийским оргиастическим празднествам. В нравственно-интеллектуальных пифагорейских обществах эта демократическая традиция сохраняется, хотя и существенно преображается. В противоположность государственно-правовой законности, санкционирующей социальное и имущественное неравенство людей, пифагорейцы выдвигают принцип естественного права, основанного на изначальном, богоданном равенстве всех живых существ. Обычно эту идею приписывают греческим софистам. Действительно, именно у них она получила концептуально-риторическую разработку. Однако ее начало коренится в сакрально-теократической идеологии орфиков и пифагорейцев (не забудем, что Эмпедокл одновременно и пифагореец и софист, учитель софистов). Основной смысл теории естественного права заключается в том, чтобы противопоставить государственно-политической законности как искусственной и, следовательно, несправедливой законность природно-божественную как естественную и, следовательно, справедливую. Для Пифагора и Эмпедокла, по сообщению Цицерона, «все живые существа находятся в одинаковом правовом положении» (3, 213). Это космополитическое право не учреждено людьми, не создано законодателем; оно изначально прирождено бытию, составляет его субстанциональную принадлежность. По этому праву нет ни именитых и знатных, ни бесправных и ничтожных, ибо, как говорит Эмпедокл, «всеобщий закон проникает через эфирные бездны и через безмерные дали небесного света» (там же).
Понятие такой естественной, космической демократии лежит в основании пифагорейской социальной утопии. Собственно, здесь не приходится говорить о каком-то проекте общественного устройства в духе платоновского утопического государства. Людям, полагали пифагорейцы, не следует изобретать никакой формы государственного правления, ибо она в качестве создания человека будет такой же несовершенной, как несовершенен сам человек. Лучшая форма общежития, согласно пифагорейцам, установлена вместе с естественным правом, т. е. она такая же древняя, как и сам мир. Мироздание, пронизанное «всеобщим законом», есть в то же время и дом, жилище, в котором обитает человек. Весь космос – братская родовая община, где все являются родственниками: боги, люди, животные. Как свидетельствует Секст Эмпирик, единомышленники Пифагора и Эмпедокла утверждали, что «люди некоторым образом связаны не только между собой и с богами, но и с бессловесными животными» (там же), ибо «единое дыхание пронизывает весь мир и объединяет нас», делая всех кровнородственными существами. В космополисе, т. е. в космическом государстве, нет ни политической, ни религиозной администрации. Высшая законодательная власть изъята из человеческой сферы и передана в руки верховных божеств, т. е. гармонизирующего (Аполлон) и объединяющего (Эрос) начал, творящих мировую цельность и законность. Политическая жизнь здесь вытесняется нравственно-религиозным священнодействием, которое сводится к достижению душевного равновесия, к внутреннему уподоблению Богу. Последний в пифагорействе почитался под разными именами, но сущность его одна: объединять, просветлять, облагораживать. Охотнее всего пифагорейское единобожие (не исключающее политеизма) выражается в катарсическом культе Аполлона. Традиция прочно связывает Пифагора с дельфийской религией, в древности его называли сыном Аполлона, и, согласно легенде, свое научно-религиозное искусство он получил от Фемистоклеи, дельфийской жрицы. Эмпедокл также чтит этого бога. От Диогена Лаэртского мы узнаем, что философ написал посвятительный гимн Аполлону, сожженный случайно его сестрой. Известно также, что Эмпедокл написал особое сочинение об Аполлоне (см. 3, 212).
Однако не надо забывать, что идея аполлоновской теократии в пифагорействе – всего лишь идеал, утопическое пожелание; всеобщая мировая гармония дана лишь как должная, религиозно-нравственная, а не фактическая реальность. Когда-то она, конечно, существовала в действительности, а именно во времена золотого века. Но теперь ее нет. Из реального бытия она превратилась в воспоминание, в задачу нравственного сознания. Чтобы снова вернуться под власть богов, восстановить теократическую гармонию золотого века, людям необходимо преодолеть государственно-политические зависимости между собой. Отсюда характерное для пифагорейцев отношение к государству: они или надстраивают над государственно-легальными формами общения надгосударственные, нелегальные; или (если приходилось занимать государственные должности, как, например, Архиту) подводят под политическую деятельность пифагорейскую религиозную этику; или же (как в случае с Эмпедоклом) блокируют государственный механизм, оспаривают у государства влияние на демос. В любом случае государство земное, град человеческий («железный век») отрицается ради несуществующего, но долженствующего существовать града теократического (золотой век); реальная социально-противоречивая и несправедливая общественность отвергается в пользу утопического, но справедливого и гармонического общества.
Провозвестником должного теократического миропорядка в пифагорействе выступает внегосударственная личность, человек не от мира сего, пророк и чудотворец. На фоне реальной политической жизни исторической Греции он выглядит хотя и приметной, но какой-то странной, анахронической величиной. Глядя на него, трудно поверить в то, что ему суждена победа или хотя бы длительный успех. В нем есть что-то прекрасное и самоотверженное, но в то же время и обреченное; в нем слишком много романтического и безоружного, чтобы выдержать соперничество с официальным жрецом или профессиональным политиком. В Элладе этот религиозный тип не получил широкого распространения, пророческое движение не сложилось в религиозно-общественный институт (как, скажем, в Иудее), но тенденция к нему все же была. И потому, когда в умственной жизни ранней Греции наряду с философией, лирикой, нравственно-правовой пропагандой находят еще и «пророческий эпос» (Ф. Зелинский), то этому не следует удивляться. Элементы теократической проповеди, осуществляемой через пророчество, можно отыскать у всех культурных народов в начальный период их исторического существования. У греков эти элементы имеют свои особенности. В Элладе государственно-политический правопорядок развивался быстрее и неумолимее, чем где бы то ни было, и потому здесь теократическая идеология, восходящая к первобытной сакральной общественности, была безнадежным предприятием и могла принять только умозрительное, религиозно-романтическое направление. В самом деле, нам почти неизвестна реально-фактическая сторона греческого пророческого эпоса. Зачатки теократической жизни были подавлены и сметены торжествующим реализмом государственно-политической законности. Об этом говорят и физическая расправа с пифагорейским союзом, и личная судьба последнего пророка орфико-пифагорейской религии Эмпедокла, побежденного своими политическими врагами.
Для пифагорейцев, в том числе и для Эмпедокла, в прошлом был не только их идеал – золотой век. Там же находился сам образец пророческого богослужения. Не случайно, что, чем дальше в глубь греческой истории мы простираем свой взгляд, тем нереальней, но художественно выразительней, мифически активней, т. е. идеальней, становится пророческий деятель. Если Эмпедокл сохраняет для нас хоть какие-то исторические черты, то Эпименид Критский и Пифагор вообще их не имеют; это какие-то неземные существа. Что касается Орфея – прообраза греческого пророческого богослужения, то здесь совсем исчезают пространственные и временные координаты; Орфей вообще уже не человек, а богочеловек, экзальтированный культурный герой, магический художник, силой искусства распредмечивающий (одухотворяющий) мир неживых предметов. Весь последующий пророческий эпос так или иначе равнялся на эту мифическую личность. В поэме «Очищения» Эмпедокл упоминает о некоем древнем великом мастере и провидце: некогда в прошлом жил среди людей «человек невероятных познаний, стяжавший изобилие божественного разумения, владеющий всевозможными искусствами. На что бы он ни направлял свой ум, с легкостью провидел каждую вещь, даже если она отстояла от него на 10 и 20 людских поколений» (3, 211). Неизвестно, кто этот всезнающий муж: возможно, Орфей, как полагает Д. Бернет; возможно, Пифагор, по мнению Порфирия и Тимея. Но это не так важно. Кто бы он ни был, ему, ясновидящему предшественнику, подражает Эмпедокл, продолжая традиции греческого нравственно-художнического учительства. Только предмет его воздействия другой: это уже не камни и деревья, движимые пением Орфея, и не абстрактно-математические истины Пифагора; это человеческие души, которые философ хотел возвысить и очистить от зла и пороков своим пророческим словом. Таким и предстает перед нами Эмпедокл: запоздавший орфик, религиозно-философский романтик, нравственный идеалист и художник, растративший свои душеспасительные иллюзии на борьбу с социальным миром Вражды и нашедший успокоение, как утверждает легенда, в торжественном самоубийстве на сицилийской Этне.