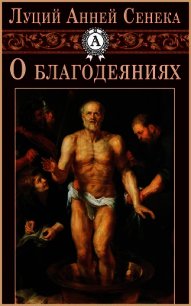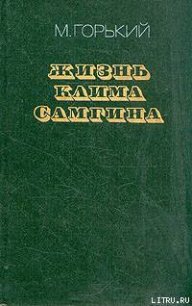Нравственные письма к Луцилию - Сенека Луций Анней (электронную книгу бесплатно без регистрации TXT) 📗
(11) Мы только кажемся спокойными. Вот если мы будем чистосердечны, если протрубим отступление, если научимся презирать внешний блеск, то, как я сказал, нас уже ничто не отвлечет, никакие хоры человеческих или птичьих голосов не прервут наших благих размышлений, стойких и неизменных. (12) Слишком легок и не сосредоточен еще на самом себе дух того, кого любой голос и случайный звук заставляют насторожиться. Значит, есть в нем тревога и ранее возникший страх, которые и будоражат любопытство. Как говорит наш Вергилий,
(13) Первый — это мудрец, которого не пугают ни занесенные копья, ни сшибающиеся мечи тесно сплоченных отрядов, ни грохот разрушаемого города; второй же — человек неискушенный, он боится за свое добро и пугается всякого шума, любой звук кажется ему грохотом и валит с ног, малейшее движение лишает его чувств. Поклажа делает его робким.
(14) Возьми на выбор любого из тех счастливцев, что много несут на себе и много тащат за собой, — и ты увидишь, что
Страшно за ношу ему и за спутника страшно. ..
Знай, ты достиг спокойствия, если никакой крик до тебя не доносится, если тебя ничей голос — ни зазывный, ни угрожающий, ни впустую нарушающий тишину — не выведет из себя. — (15) «Как так? Но разве не лучше иногда побыть вдали от шума?» — Признаюсь, ты прав. И я переберусь с этого места: ведь я хотел только испытать себя и закалиться. Какая мне надобность мучиться дольше, если Улисс давно нашел простое средство, и оно спасло его спутников даже от сирен? Будь здоров.
Письмо LVII
Сенека приветствует Луцилия!
(1) Когда мне понадобилось вернуться из Бай в Неаполь, я легко поверил, что на море буря, — лишь бы снова не пытать судьбу на корабле. Однако по дороге оказалось столько грязи, что поездка эта была все равно как плаванье. В тот день я вытерпел все, что назначено терпеть атлетам {: после умащения нас осыпала пыль неаполитанского склепа[2]. (2) Нет ничего длиннее этого застенка и ничего темнее факелов в нем, которые позволяют не что-нибудь видеть во мраке, а видеть самый мрак. Впрочем, даже будь там светло, пыль застила бы свет. Она и под открытым небом неприятна и тягостна; что же говорить о месте, где она клубится сама в себе и, запертая без малейшей отдушины, садится на тех, кто ее поднял. Так пришлось нам терпеть две несовместимые неприятности зараз: на одной дороге, в один день мы страдали и от грязи, и от пыли.
(3) Однако и эта темнота дала мне повод для размышлений: я почувствовал в душе некую перемену — не страх, но подавленность, вызванную новизной непривычного места и его гнусностью. Я не говорю о себе — ведь мне далеко до людей терпеливых, а до совершенных и подавно, — но и у того, над кем фортуна потеряла власть, душа тут заболит и лицо побледнеет. (4) Есть вещи, Луцилий, от которых ничьей добродетели не уйти[3]: ими природа напоминает о неизбежности смерти. Каждый нахмурится при виде грустного зрелища, каждый вздрогнет от неожиданности, у каждого потемнеет в глазах, если он, стоя у края бездны, взглянет в ее глубину. Это — не страх, а естественное чувство, неподвластное разуму. (5) Так храбрецы, готовые пролить свою кровь, не могут смотреть на чужую, так некоторые падают без чувств, если взглянут на свежую или старую, загноившуюся рану либо прикоснутся к ней, а другие легче вынесут удар меча, чем его вид. (6) И я почувствовал, повторяю, если не смятенье, то перемену в душе; зато, снова увидав первый проблеск света, я ощутил, как она воспрянула без моего ведома и принужденья. Потом я принялся сам с собою рассуждать, как глупо одного бояться больше, другого меньше, хотя исход всюду один. В самом деле, какая разница, рухнет ли на тебя будка или гора? Никакой! И все же иные больше боятся обвала горы, хоть и то и другое одинаково смертоносно. Вот до чего слеп страх: он видит не исход, а только орудия.
(7) Ты, верно, думаешь, что я говорю как стоики, которые полагают, будто душа человека, раздавленного большой тяжестью, не может уцелеть, но немедля рассеивается, не имея свободного выхода? — Нет! И мне кажется, что утверждающие это заблуждаются. (8) Как нельзя придавить пламя (оно обтекает любой гнет и вырывается наружу), как невозможно рассечь ударом или пронзить острием воздух, ибо он, поддавшись, сразу же сливается снова, так и душу, которая состоит из тончайшего вещества, нельзя удержать и придавить в теле: благодаря этой тонкости она прорывается сквозь все, что бы ни навалилось сверху. Как молнии, даже когда она широко сотрясает и озаряет все вокруг, открыт выход через самую узкую щелку, так и душе, чье вещество тоньше огненного, по всему телу свободен путь к бегству. (9) Вопрос только в том, может ли она остаться бессмертной. Но в этом даже не сомневайся; если она пережила тело, то никоим образом погибнуть не может — по той самой причине, по которой не погибает никогда, ибо нет бессмертия с каким-нибудь исключением, и тому, что вечно, невозможно повредить. Будь здоров.
Письмо LVIII
Сенека приветствует Луцилия!
(1) Вчера я, как никогда прежде, понял всю бедность и даже скудость нашего языка. Случайно заговорив о Платоне, мы натолкнулись на бессчетное множество таких предметов, которые нуждаются в именах и не имеют их или таких, что имели имя, но потеряли его из-за нашей привередливости. Но терпима ли привередливость при такой бедности? (2) Насекомое, у греков называемое оГотрое, преследующее скот и разгоняющее его по всему урочищу, наши называли «оводом». В этом поверь хотя бы Вергилию:
Я думаю, понятно, что слово это исчезло. (3) Или, чтобы тебе не ждать долго, вот еще: раньше употреблялись простые слова — например, говорили «решить спор железом». Доказательство даст тот же Вергилий:
А теперь мы говорим «разрешить спор», простое слово вышло из употребленья. (4) В старину говорили «велю» вместо «повелю» — тут поверь не мне, а надежному свидетелю Вергилию:
(5) Я так усердно этим занимаюсь не затем, чтобы показать, как много времени потерял я у грамматика, но чтобы ты понял, как много слов из Энния и Акция оказались в забвенье, если позабыты даже некоторые слова из того, кого мы ежедневно берем в руки [4].
(6) Ты спросишь, для чего такое долгое предисловие, куда оно метит. Не скрою: я хочу, чтобы ты, если это возможно, благосклонно услышал от меня слово «бытие». А если нет, я скажу так же, несмотря на твой гнев. За меня — Цицерон[5], создатель этого слова, поручитель, по-моему, вполне состоятельный; если же ты потребуешь кого поновее, я назову Фабиана, чье изящное красноречие блистательно даже на наш привередливый вкус. Что же делать, Луцилий? Как передать понятие усия, столь необходимое, охватывающее всю природу и лежащее[6] в основе всего? Поэтому позволь мне, прошу тебя, употреблять это слово, а я постараюсь как можно бережливее пользоваться данным мне правом и, может быть, даже довольствуюсь тем, что имею его. (7) Много ли мне будет пользы от твоей уступчивости, если я все равно не смогу перевести на латинский то, из-за чего я и упрекал наш язык? Ты еще строже осудил бы римскую скудость, если бы знал то слово в один слог, которое я не могу заменить. Ты спросишь, какое. — То он. Наверно, я кажусь тебе тупоумным: ведь ясно, как на ладони, что можно перевести его «то, что есть». Но я усматриваю тут большое различие: вместо имени мне приходится ставить глагол. (8) Но раз уж необходимо, поставлю «то, что есть».