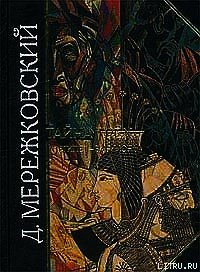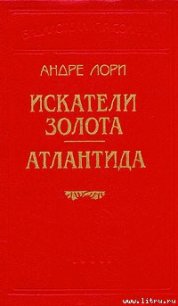Тайна Запада: Атлантида - Европа - Мережковский Дмитрий Сергеевич (книги .txt) 📗
Будем помнить, что наш христианский Крест, может быть, более поруган, чем те, древнемексиканские, и что Святейшая Инквизиция тут же, в Мексике, принесшая столько человеческих жертв под знаменьем Креста Господня, — из этих поруганий не наибольшее.
Чем была религия атлантов, нам так же трудно судить по «атлианским» обломкам ее, как, не зная Евангелия, трудно судить о христианстве по рассказам недокрещенных дикарей-людоедов.
Бога своего назвать не умеют по-человечески, — как птицы щебечут «Кветцалькоатль», но помнят то, что мы уже почти забыли: Бог есть мир; для того и родился Бог человеком, чтобы возвестить мир людям, в темных сердцах человеческих взойти Звездою Утреннею, пасть на них Росою Небесною.
Помнят, что Бог есть Дух: самое святое, тайное имя Кветцалькоатля — Ehekatl — Ветер, Дыхание, Дух; помнят, что второе пришествие его будет царством Духа (Réville, 83).
Помнят, что природа человека божественна: «Боги испугались, что создали человека слишком совершенным, и наложили на дух его облако — лицо», — смертное лицо Адама (Donelly, 169).
Помнят, что Кветцалькоатль родился человеком воистину, смертным от смертной, но был уже до создания мира: «Вначале было только море, — ни человека, ни зверя, ни птицы, ни злака, и Пернатый Змей, Жизнедавец, полз по воде, как рдяный свет» (Donelly, 165). — «Дух Божий носился над водою», — реял голубем: так в Бытии Моисеевом, а в древнетольтекском, — образ Кветцалькоатля — «Змей Пернатый» с лицом человека — «Птица-Змей», Kukuklan (Réville, 240). Это значит: в боге-человеке — два естества, — земное и небесное: птица в небе, змей в земле; мудр, как змей, прост, как голубь. Кветцалькоатль — свившийся в кольца, спящий Змей, каким он изображается в бесчисленных изваяниях: спит, но проснется; ушел, но придет (Réville, 72).
Змей для нас дьявол. Что же значит: «Как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому»? (Ио. 3, 14.) Мы и это забыли, а они помнят: в древнетольтекском рисунке райское Дерево Жизни, Tamoachan, с надломленным посередине стволом, источающим кровь, обвивает кольцами Змей с лицом Мужеженщины, arsênothêlys, как определяют Гностики-Офиты существо «второго Адама», «Сына Человеческого» (Dévigne, 192. — Donelly, 165).
«Медного Змея» на кресте как будто предчувствуют теотигуанакские ваятели, сплетая кольца базальтовых змей в подобие крестов (Ména, Les art anciens de l’Amérique. Expos. du Louvre. 1928 passim.).
Надо было сделать выбор между двумя Змеями — губящим, на Древе Познания, и спасающим, на Древе Жизни; выбора сделать не сумели атланты и погибли. Сумеем ли мы? Наше бывшее христианство — уже почти «атлианство» — умирающий свет Атлантиды. Это очень страшно — страшно, как то «зерцало гаданий», о котором говорит апостол Павел. Чье лицо в зеркале? Вглядываемся и узнаем себя — Атлантиду-Европу.
Жуткое чувство воспоминанья-узнаванья, бесконечно-далекого — близкого:
египетский nem-masu, «повторение бывшего», орфический apokatastasis, «восстановление бывшего», — смутное, как бы сонное, и, вместе с тем, очень ясное, трансцендентно-физическое чувство «дурной бесконечности» овладевает нами, по мере того, как мы узнаем — вспоминаем Атлантиду.
Был и Он? Нет, Сын Человеческий был только раз на земле, а это лишь тень Его, простершаяся от начала мира до конца. Если же мы смешиваем Тело с тенью, то, может быть, потому, что мы сами уже только тень.
«Мир или война?» — снова будут решать десять царей Атлантиды, сидя на жертвенном пепле, во святилище, где все огни потушены; снова решат: «война», и снова мудрый среди безумных узнает — вспомнит, что вся Атлантида-Европа будет пеплом и жертвой.
Очень далеко от нас Атлантида, если очень далеко война, а если война, то и Атлантида очень близко.
Мы не такие, как атланты? Нет, такие же.
Когда Фернандо Кортец, готовясь принести двенадцать миллионов человеческих жертв для завоевания Мексики, стыдил ее последнего царя, Монтезуму, человеческими жертвами, тот ему отвечал:
— Вы, христиане, на войне делаете то же самое (Réville, 149).
Так могла бы ответить и Атлантида грешная «святой» Европе. Если же есть разница, то едва ли в нашу пользу. Судя по ученикам своим в древней Америке, атланты приносили в жертву только врагов своих — военнопленных; мы же — врагов и друзей, чужих и своих, потому что наша вторая всемирная война, международная, тотчас обернется гражданскою, убийство — братоубийством. «И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам; проливали кровь неповинную… и осквернилась земля кровью» (Пс. 105, 37).
тысячу или десять тысяч или десять лет назад? Было вчера — будет завтра.
И еще разница: те приносили человеческие жертвы богу-дьяволу, а мы — себе, потому что каждый из нас — сам себе Бог. Но вывод из обеих религий один:
Вечная война — война всех против всех, до последней черты братоубийц Каинов.
Чем же мы лучше тех жалких и страшных атлантических выродков, сладострастно-жестоких пауков Анагуакских? Может быть, не лучше, а хуже, потому что нам больше было дано и спастись было легче: наше противоядие было сильнее, наш свет ярче. Но солнца так же не захотели и мы, как люди Умирающего Света, лунные титаны; так же как атланты, мы считаем себя в безумье мудрыми, в слепоте — зрячими, «всеблаженными» — на краю гибели; та же и у нас «культура демонов»; тот же будущий, а кое-где уже настоящий, «военный коммунизм» благополучных инка; тот же яд и в наших костях — половая проказа, духовный сифилис; тот же путь к той же цели — мировая война за мировое владычество; те же человеческие жертвы богу-дьяволу.
Как же мы не видим, что бич Божий уже занесен над нами; что наша Атлантида не где-то далеко, извне, а близко, в нас же самих; что сердце наше зреет для нее, — под страшным солнцем, страшный плод Гесперид?
«Буду чуть слышным шепотом жизни я, жизнь всемогущая», — могла бы сказать и Европа, как древняя царица Майя.
Кажется, никогда еще так близко не заглядывало в лицо будущему бывшее; никогда еще так не вопияли древние камни среди немоты человеческой: «Было и будет!»
Слышит ли хоть кто-нибудь из нас этот вопль? Понял ли хоть кто-нибудь, чему усмехается, глядя в наши глаза пустыми глазницами, тот древнемексиканский череп из горного хрусталя — прозрачный ужас (Ména, Les arts anciens de l’Amérique. Expos. du Louvre, 1928. № 25, ville Mexico; Musée Trocadero, № 7.621); о чем плачет тот Маянский сфинкс — «Вечерняя Звезда», с лицом девы-отрока: судорогой слез опущены углы навеки замолчавших губ, слезы как будто застыли в широко раскрытых глазах, но не прольются — сохнут на сердце, как вода на раскаленном камне; или тот другой Копанский сфинкс — может быть, самое тихое, мудрое и скорбное из всех человеческих лиц, — лицо того, кто видит гибель мира и знает, что можно бы мир спасти, но также знает, что спасти нельзя, потому что мир хочет погибнуть (Фотографические снимки с этих двух «Сфинксов» были на выставке древнеамериканского искусства в Лувре, 1928 г. Les arts anciens de l’Amérique, без номеров, в 1-й большой зале, справа от входа; первый — с лицом, напоминающим египетского царя Ахенатона-Аменхотепа IV (1350 до Р. Х.) из Uxmal, Yucatan; второй — из Copan, Honduras).