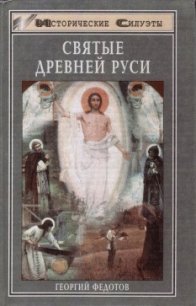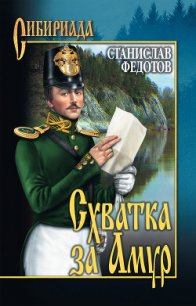Судьба и грехи России - Федотов Георгий Петрович (читать книги онлайн бесплатно полностью без сокращений TXT) 📗
==86
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАНАЛ
Действие третье
Вполне мыслимо было бы выводить родословную семидесятников непосредственно от людей 40-х годов: представить Белинского и Герцена спускающимися в народ и концентрирующими в социализме свою политическую веру. Но русская жизнь смеется над эволюцией и обрубает ее иной раз только для того, чтобы снова завязать порванную нить. Таким издевательством истории было вторжение шестидесятников.
Все, что имели сказать поповичи, было, в сущности, уже сказано дворянской интеллигенцией. Поколение отрешенных гегельянцев сделалось родоначальником русского либерализма и даже западнического консерватизма (Чичерин, Катков), но самые яркие его представители кончали свой век с евангелием материализма и социализма. Оно послушно повторило процесс разложения левого гегельянства в антропологии Фейербаха и католического романтизма в сенсуализме утопистов. Этот перелом падает на 30-е годы и еще не изучен во всех подробностях. По-видимому, Герцену принадлежит активная роль соблазнителя. Во второй половине 30-х годов он уже покончил с философским идеализмом, проповедует физиологию и обращает в свою веру Белинского и Бакунина. Разрыв с Грановским, который не хочет отказаться от бессмертия души, — но дело Герцена выиграно. Попав на Запад в 1847 году, он переживает революцию 48-го года в качестве законченного страстного социалиста французской школы.
Но дворянство социально разлагается — оно не в силах пережить «эмансипации» и теряет культурную гегемонию. Разночинцы вытесняют его с командующих высот, но принимают часть его духовного наследства. По самой природе своей, они должны были поддержать интеллигентскую, а не почвенную мысль, традицию западничества, а не славянофильства. Сами они были воплощенным отрывом от почвы, отщепенцами той народной (духовной, купеческой, крестьянской) Руси, которая живет еще в допетровском сознании. Тяжело и круто порвав со «страной отцов», они, в качестве плебеев, презирают и дворянскую культуру, оставшись вне всякой классовой и национальной почвы, уносимые течением европейского «прогресса». Идее западников они сообщили грубость мужицкого слова, донельзя упростили все и одним фактом этого упрощения снизили уровень русской культуры совершенно так, как снизила его революция 1917 года. В рабоче-крестьянской молодежи
==87
наших дней мы вправе видеть тот же психологический тип, что в разночинцах 60-х годов, с соответствующей поправкой на уровень. Недаром старые большевики воспитывались на Писареве, который к началу XX века переживает в революционных кругах настоящее воскресенье.
Старая традиция и старый уровень русской культуры не гибнут с этим нашествием варваров. Пережив тяжелые для них 60-е годы, они продолжают расти и крепнуть преимущественно в почвенных, «реакционных» направлениях русской мысли. Вместе с тем линии русской интеллигенции и русской культуры все более расходятся. К XX веку это уже две породы людей, которые перестают понимать друг друга. Но их духовная значимость и культурный уровень обратно пропорциональны исторической действенности. Нужно ли повторять, что здесь мы занимаемся только «интеллигенцией»?
Отрыв шестидесятников от почвы настолько резок, что перед их отрицанием отходит на задний план идейность и на сцену на короткий момент выступает чистый «нигилист». То, что литературно его представляет дворянин Писарев — безупречный джентльмен, — может быть понято только в свете семидесятского народничества. Интеллигентные дворяне отныне увлекаются потомком разночинцев, а не обратно, как было хотя бы с Белинским в 40-х годах.
По-видимому, нигилизм 60-х годов жизненно в достаточной мере отвратителен. В беспорядочной жизни коммун, в цинизме личных отношений, в утверждении голого эгоизма и антисоциальности (ибо нигилизм антисоциален), как и в необычайно жалком, оголенном мышлении — чудится какая-то бесовская гримаса: предел падения русской души. По крайней мере русские художники всех направлений, от Тургенева до Лескова, от Гончарова до Достоевского, содрогнулись перед нигилистом, Толстой прошел мимо него только потому, что не нашел в своей палитре подходящих красок: он не умел смеяться и не любил малевать черта.
Нетрудно показать и много раз показана отрицательная связь, существующая между духом русского православия и нигилизмом. Отсутствие мира гуманистических ценностей, срединного морального царства, делает богоотступника уже не человеком. Неудивительно, что нигилистическая проказа идет прежде всего из семинарий. Недавно мы познакомились и с патриархом этих взбесившихся бурсаков, развращавшим еще в 40-е годы юного Фета: с жутким Иринархом Введенским. Но, конечно, демоны шестидесятников не одни «мелкие бесы» разврата. Базаров не выдумка и Рахметов тоже. Презрение к людям — готовность отдать за них жизнь; маска цинизма — и целомудренная холод-
==88
ность; холод в сердце, вызов к Богу, гордость непомерная — сродни Ивану Карамазову; упоение своим разумом и волей — разумом без взлета, волей без любви; мрачность, замораживающая истоки жизни, — таково это новое воплощение Печорина, новая демонофания, в которую нам не мешает вглядываться пристальнее: в ней ключ к бескорыстному героическому большевизму «старой гвардии».
В анархизме 60-х годов еще нет политической концентрации воли. Поскольку он отрицает царизм, он становится родоначальником русской революции. И в историю ее он вписывает самую мрачную страницу. «Бесы» Достоевского родились именно из опыта 60-х годов; по отношению к 70-м они являются несправедливой ложью, 60-е годы: это интернационал Бакунина, гимны топору, прокламации, требующие 3 000 000 голов, идеализация разиновщины и пугачевщины, ужасное, дегенеративное лицо Каракозова, зловещий Нечаев, у которого Ленин — бессознательно, быть может, — учится организационному и тактическому имморализму.
Это второе по времени освобождение «бесов», скованных веригами православия. Всякий раз взрыв связан с отрывом от православной почвы новых слоев: дворянства с Петром, разночинцев с Чернышевским, крестьянства с Лениным. И вдруг этот бесовский маскарад, без всяких видимых оснований, обрывается с началом нового десятилетия. 1870 год — год исхода в народ. Неожиданный, изумительный подвиг, аскетизмом своим возвращающий нас вФиваиду или по меньшей мере в монтанистскую Фригию, совершается теми тысячами русских юношей и девушек, которые воспитаны на Писареве и Чернышевском, на Бокле и Бюхнере, иные побывали в коммунах и по основам мировоззрения мало чем отличаются от нигилистов. Вот уж подлинно: чистым все чисто. Но откуда же взялись девственники и мученики в этом аду, от которого они даже не отрекаются?
И здесь доля вины за эту апорию падает на схематичность нашего изложения: нам пришлось многое упростить, выпустить связующие нити, идущие от 40-х годов к 70-м; не нашлось места Добролюбову, человеку типично переходного времени (50-е гг.), обойдены народолюбивые тенденции «Современника», гражданская муза Некрасова. Все эти почки 70-х годов, в век Базарова. Да и Чернышевский не то же, что Писарев, — хотя, впрочем, менее всего семидесятник.
Но как ни раздумывай в поисках корней народничества, оно необъяснимо до конца, как всякое религиозное движение: это взрыв долго копившейся, сжатой под сильным давлением религиозной энергии, почти незаметной для
==89
глаза в латентном состоянии. Ее можно угадывать в неистовстве Белинского, в тоске Добролюбова, в идеологическом аскетизме 40-х годов. И все же: перед нами стихийное безумие религиозного голода, не утоленного целые века.