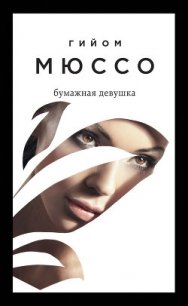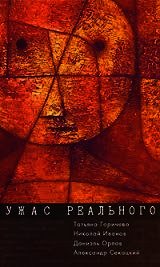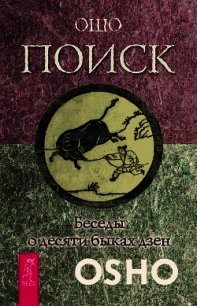От Эдипа к Нарциссу (беседы) - Горичева Татьяна (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
По Жирару, жертвоприношение есть стабилизатор врожденной агрессии, коллективное успокоительное, необходимое для здоровья социума. Момент переноса в акте жертвоприношения уловлен точно. Возможность совместного присутствия в другом теле, в специально избранном теле жертвы порождает ситуацию единения и устраняет распри. Здесь мысль автора последовательна и решительна, Жирар проводит свою концепцию через свидетельства множества культур, находя удивительные примеры. Но последовательность и однозначность формулировок легко оборачивается уязвимостью. Возникает, в частности, вопрос почему жертвоприношение должно быть непременно «успокоительным»? Как будто у архаического, да и не только архаического социума нет более важной задачи, чем избавление от избытка, будь то избыток агрессивности или чувственности вообще. Жирар то и дело проводит параллель между жертвоприношением и катарсисом (очищением), тогда как интуитивно ясно, что жертвенный акт столь же успешно производит «подзарядку» — инфлюэнс, возгонку ярости, мобилизованности и решимости. Жертва распаляет и конденсирует пыл. В другом китайском трактате можно найти описания распаляющих и воспламеняющих жертв. Вот старый Чжу перерезает себе горло, когда войско императора проходит по улицам города, и его жертва одухотворяет воинов духом воинственности. Производство солидарности через жертвоприношение и здесь не вызывает сомнений. Безусловно, осуществляется единение социального тела. Но при этом реализуется не сброс давления, а живое биение пульса. Потрясения, неистовые трансгрессии, описанные Батаем, во всяком случае не менее убедительны. Вспомним праздники насилия, которые Ницше называл «фестивалями богов». Они тоже суть скрепы солидарности, но не как жаропонижающий жаждоутолитель. Их цель — избавиться от невразумительности повседневной жизни, восстановить непримиримую оппозицию сакрального и профанного. Ибо не меньше, чем в транквилизаторах, всякое общество нуждается в возобновлении эталонов высокой чувственности, предъявляемых не к сведению, а к непосредственному проживанию. Священное всегда действует как резец, прорезающий контуры человеческого на уже застывшей глине. Речь идет о возобновляемости творения, и инструментом в этом случае является именно резец, а не мягкая кисточка.
Т. Г.: Я могу согласиться со многим из того, что говорил Александр. У Жирара есть такая мысль, что Господь Иисус Христос принял на себя все насилие мира, собрал его в одну точку и искупил своей смертью. Поэтому насилия как онтологически значимого обстоятельства больше не должно существовать. И, стало быть, никакой дальнейшей жертвы не нужно. Эта мысль мне ужасно не нравится. Конечно, Господь пострадал как жертва, но это не значит, что мы не должны прилагать никаких усилий в нашей жизни, во всем полагаясь на эту спасительную жертву. Я думаю, что даже наоборот, противоречия в нашем мире только усиливаются, и чем дольше мы живем, тем больше с нас спрос. А чем мы пожертвовали, насколько интенсивным было наше собственное существование? Мы живем в свое время, и нам не дано другого. Поэтому мы должны его любить, должны всерьез к нему относиться, проживая с наибольшей силой то, что выпадает на нашу долю. Серьезность этой мысли, этого экзистенциального начала для меня крайне важна. Мы живем здесь и сейчас. Господь нас от многого избавил, но вместе с тем не избавил ни от чего из того, что мы должны совершить в отпущенный нам срок. Быть может, теперь необходимо исполнить даже больше того, что нам кажется по силам, по нашим способностям, потому что критерий наших поступков стал несравненно более высоким. Жирар вместо этого все решает свести к какой то тихой заводи, к техническому комфорту и гуманистическим идеалам. Фактически он все свел ко «второй смерти». При этом я хотела бы сказать еще вот о чем. Мне очень нравится мысль Жирара, что насилие, будучи по природе своей иррациональным, всегда оправдывается, всегда должно себя обосновать — будь то в борьбе классов, или в личной вражде, или в обиде на весь мир, или как угодно. Действительно, насилие с необходимостью влечет за собой оправдание. Но мне кажется, что сейчас, в наше время, никакого оправдания насилию нет и быть не может. Насилие больше не способно себя оправдать, потому что закончилось господство идеологий. Никто больше не верит в высокие цели, ради которых должны приноситься страшные жертвы. А если так, если мы живем в мире, в котором идеи больше не движут массами и где любая идеология является лишь элементом политики или незаменимым средством манипуляции массовым сознанием, то ни какого оправдания жертвенному началу просто не может быть найдено. Поэтому и насилие мы не можем оправдать, да и не хотим этого делать. Но что в таком случае получается? Получается, что насилие и агрессивность выступают в абсолютно чистом виде. Осмысленное насилие сменяется бессмысленным. Иными словами, насилие выступает сейчас в форме апокалипсиса зла. Я бы сказала, что никакое зло в наше время не может и даже не пытается себя оправдать. Именно в этом смысле я и говорю об апокалипсисе, то есть об откровении, о чистой, незамутненной форме, не перегруженной хитросплетениями идеологии. Мне хотелось бы подчеркнуть и осмыслить этот момент. С одной стороны, внешняя жизнь большинства людей протекает достаточно нормально, современное общество обеспечивает определенный уровень комфорта, достатка, социальных прав и т п , но с другой стороны, зло сделалось гораздо более сильным и явным, чем в прежние времена. Можем ли мы понять, как нам быть в ситуации окончательной обнаженности самых неприглядных сторон мира, когда насилие оказывается в известных обстоятельствах даже неким прорывом искренности, в то время как добро часто воспринимается с усмешкой и презрением?
Д. О.: Действительно, мало кто верит в искренность добрых намерений, хотя с легкостью верит в обратное А это и есть верный признак того, что насилие утратило свое сакральное измерение. Я полностью согласен с мыслью Татьяны о том, что насилие не может быть оправдано, но вот какое уточнение мне кажется принципиальным: насилие не имеет оправдания, однако оно продолжается. Это означает, что, в сущности, оно никогда в особенном оправдании и не нуждалось, по крайней мере в собственных глазах, хотя извне, из структур социальности всегда стремилось так или иначе себя легитимировать. Я полагаю, что в наше время все уровни легитимации насилия в самом деле разрушены, за исключением, разве что, психоаналитического уровня, и в этом смысле мне симпатична идея Жирара о том, что нам не следует топить проблему насилия в символической интерпретации жертвоприношения. Ибо символическая интерпретация призвана только к тому, чтобы обозначить легитимность акта насилия. Поэтому если мы ставим вопрос непредвзято, тогда придется принять ту простую мысль, что насилие существует только для насилия, себя порождает и собой ограничивается. Ни к чему насилие не стремится, кроме того же самого насилия. До тех пор пока мы это признаем, никто нас не убедит, что оно может иметь своей целью справедливость, благо или нечто подобное. Следовательно, если насилие произошло, то онтологически ему не может быть найдено никакого оправдания — и тем вернее, чем больше его станут оправдывать в социальном, политическом, аксиологическом или ином плане. Достоевский со своей слезинкой ребенка оказался прав, потому что и счастье всего человечества как величайшее благо не является и не может стать оправданием даже для ничтожного, минимального насилия. Давайте задумаемся: вот Достоевский допускает в качестве кванта или атома насилия слезинку ребенка и ставит вопрос: а можно ли внести эту минимальную плату в качестве залога за проход в царство истины, добра и красоты? В конце концов, речь ведь действительно идет о минимуме зла, фактически о вынужденной уступке злу. Известно, что в нашем мире за слезинку ребенка не купишь и миллиардной доли всеобщего блага. Сплошь и рядом ради ничтожных целей приносятся несоизмеримо большие жертвы. Да и вызвать слезинку ребенка в высшей степени легко: с точки зрения взрослых, дети плачут по пустякам. Вряд ли слезы детей должны вызывать у нас угрызения совести. Но Достоевский не говорит о муках совести, скорее, он спрашивает, с какой минимальной величины насилия мир перестает нас устраивать, обнаруживает всю свою бытийную неустроенность, теряет определенность своих форм. И получается, что порядок бытия может быть нарушен присутствием одного-единственного атома зла в мире — того самого, что вызвал слезинку ребенка, упавшую на краеугольный камень основания. А дальше мы легко переходим от минимальных величин к астрономическим и запредельным. Если архаический социум в практике жертвоприношения умел нейтрализовать атом зла «на входе», скажем, принесением агнцев, то в наше время насилие, не встречая противоядия, свободно циркулирует по телу социума, и это положение дел не могут исправить даже миллионные кровавые жертвы, к которым человечество уже давно привыкло. Поэтому насилие действительно стало неоправданным и неспасительным.