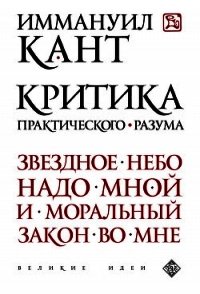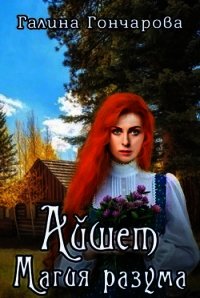Критика цинического разума - Слотердайк Петер (читать книгу онлайн бесплатно без .TXT) 📗
Для людей, живущих сегодня, дебаты внутри социалистического движения – от спора о ревизионизме в старой социал-демократии до целого клубка дискуссий во Втором, Третьем и Четвертом интернационалах – представляются столь же курьезными, сколь споры теологов в XVI веке о том, как надо интерпретировать таинство причастия. Они видят в этих спорах только одно – то же самое, что выявляют в строгом и беспристрастном исследовании непредвзятые историки: формирование единого, ориентированного на собственные жизненные интересы пролетарского Я не удалось.
До сих пор воля к жизни и воля к власти выставляли два различных счета. Именно в случае с пролетарским Я фикции были слабее, чем реализмы. Те, кто пытался программировать политическую идентичность, с самого начала вступали в борьбу между собой и запутывались в своих собственных хитросплетениях. Единое пролетарское классовое Я – это не реальность, а миф. Мифологичность его легко распознать – стоит только понаблюдать за программистами во время их публичной деятельности; ведь они и сами какое-то время с похвальной откровенностью называли себя пропагандистами и распространителями идеологии.
Одной из причин, вызвавших крах социалистических попыток программирования идентичности, стала психологическая наивность старого понимания политики. Социализм – по крайней мере, у западных наций – не сумел убедительно использовать для вовлечения в политику мотивы счастья и радости, даже просто перспективу уменьшения страданий в будущем. Его психополитика почти повсеместно оставалась на примитивном уровне; она могла поставить себе на службу злобу, надежду, тоску и честолюбие, но не то, что имело бы самое решающее значение – не радость и счастье быть пролетарием. Именно этой светлой темы, в соответствии с социалистическим пониманием пролетариата, и невозможно было использовать, потому что пролетарское бытие определялось чисто негативно: пролетарий – это тот, кто не имеет ничего, кроме потомства, тот, кто лишен богатства и не имеет никаких шансов улучшить свою жизнь. Путь к позитивной жизни можно обрести только тогда, когда ты перестанешь быть пролетарием. Только в революционном Пролеткульте, который расцвел вскоре после русской Октябрьской революции, имело место нечто вроде непосредственного классового нарциссизма: самовосхваление пролетариата, которое вскоре с неизбежностью сошло на нет из-за собственного убожества и лживости. Все-таки в политическом нарциссизме, равно как и в нарциссизме приватном, самое главное – это «быть лучше»; это определяет все.
Noblesse oblige? Но можно ли сказать, что положение пролетария обязывает?
Пролетарское Я, которое следует по пятам за буржуазным и заявляет притязания на его наследство, обладает классовым опытом трудящихся, начинающих преодолевать свою политическую немоту. Каждое Я – для того, чтобы заявить о себе и обратить на себя внимание общественности, – нуждается в твердом внутреннем ядре, в гордости за себя, на которую оно опирается, представая перед другими. Величайшим прорывом народа было то, что он открыл для себя язык прав человека. Начиная с крестьянских войн 1525 года и вплоть до акций сегодняшнего русского и польского диссидентского сопротивления, права человека выражали себя на этом языке как права человека-христианина; в традиции, которая восходит к американской и французской революциям, они понимались как светские права, не связанные с религией, – как естественные права, происходящие от природы.
Высокое чувство, являющее собой смесь возмущения и притязания на свободу, – чувство, требующее быть не только рабом (роботом), но также и человеком, – как раз и стало тем фактором, который придал раннему рабочему движению его моральную, психологическую и политическую силу, лишь возраставшую в ответ на репрессии. (Поэтому социалистическое движение имело конкурента в лице христианского рабочего движения, которое следовало тому же мотиву: полному политического и правового значения чувству того, что ты – человек; правда, элемент революционности здесь отсутствовал.) Пока нищета пролетариата была такой чудовищной, какой ее описывают документы XIX века, уже само появление у рабочего чувства, что он обладает правами человека, должно было составить политическое ядро его Я, появившееся как дар. Это придает раннему и наивному социализму ностальгическое очарование, делает его вдохновляющим и исполненным истины политическим гуманизмом. Однако отрезвление наступает сразу, как только начинается спор о том, какое толкование прав человека является верным. В конце XIX века начинается эпоха стратегии, расколов, ревизионизма и конфликтов между собратьями. Сознание прав человека было растерзано, попав в шестеренки партийной логики и логики борьбы. Оно утратило свою способность поддерживать высокое пролетарское чувство, которому было бы не страшно испытание публичностью, – утратило с того момента, как социалистические течения начали заниматься взаимным очернением.
Еще несколько раньше социал-демократия пыталась затрагивать нерв классового нарциссизма – когда она проводила свою образовательную политику под лозунгом «Знание – сила». Тем самым появилось притязание на свою собственную классовую культуру, которое основывалось на понимании того, что без творчества, специфического именно для данного класса, без «морали», превосходящей мораль всех других классов, и без образования никакого социалистического государства построить невозможно. «Знание – сила» – этот тезис мог также означать, что социализм наконец начал догадываться о существовании тайной связи между нарциссическим наслаждением культурой и политической властью. «Если ты беден, то это еще далеко не означает, что ты добр и умен» (Кёстнер Э. Фабиан, 1931).
Во времена расцвета рабочего движения сознание прав человека отошло на второй план, будучи отодвинутым пролетарской гордостью за достижения своего класса, – и эта гордость была вполне обоснованной, поскольку опиралась на труд, прилежание и силу пролетариата. Его осознание своей силы нашло свое кульминационное выражение в поэтических строчках: «Все колеса останавливаются, если того захочет наша сильная рука». Пафос генеральной забастовки всегда содержал в себе некоторую долю высокого чувства классовой мощи и господства над производством – разумеется, только при условии единства пролетариата, а это условие почти во все времена было нереальным. Это единство терпело крах по той причине, что жизненный интерес и политический интерес у пролетариата всегда перекрывались только частично и никогда не совпадали полностью. Но и тайного сознания своей способности к всеобщей забастовке, а также сознания способности на великий труд не хватило для того, чтобы надолго обеспечить стабильное существование высокого классового чувства. Серость повседневности оказалась сильнее, чем те политические уроки, которые были получены во время драматических эпизодов классовой истории. Только лишь сознание своей силы и способности к труду еще не может в конечном счете обеспечивать чувство культурной гордости, которое существовало бы долго, постоянно обновляясь.
Возможность постоянной регенерации высоких классовых чувств основана на культурной и экзистенциальной способности класса к творчеству. Одна только власть в конце концов наскучивает самой себе. Там, где счастье и удовольствие от политики ограничиваются только лишь удовлетворением честолюбивых амбиций власть имущих, неизбежно будет существовать постоянное витальное сопротивление масс. Здесь, однако, заложена и возможность возникновения объективного пролетарского чувства неполноценности. Наемный труд создает абстрактную стоимость. Она продуктивна, но не креативна. Идиотизм промышленного труда являет собой ту непреодолимую по сей день преграду, которая препятствует возникновению реального классового нарциссизма у пролетариата. Но культурная гегемония производящего человека могла бы проистекать только из такого классового нарциссизма. Наоборот, культурная система, основанная на грубой идеологии труда, не способна воспринять ценнейшее наследие аристократической и буржуазной культур – исполненную радости и наслаждения политику творческой жизни. Социалистический способ наследования усилил старые недостатки и уменьшил старые преимущества. Принять наследие дворянства и буржуазии в цивилизацию «хорошей жизни» – это может означать только одно: отказ от тех недостатков, какие были у предшественников, и восприятие их сильных сторон. В противном случае дело просто не стоит труда.