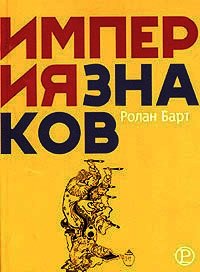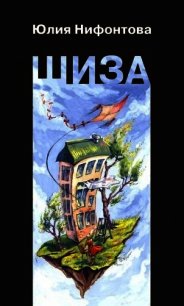Силы ужаса: эссе об отвращении - Кристева Юлия (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
Если же мы рассмотрим представление Бугле как развитие уточнений Дюмона, то увидим основополагающую для иерархического индийского строя оппозицию чистое/нечистое не только в ее всеобщем значении: но и как коррелят правил брака и религиозных традиций (жертвоприношения и их развитие). Тогда следует рассматривать оппозицию чистое/нечистое не как архетип, а как один код дифференциации говорящего субъекта как такового, код отторжения им другого для того, чтобы стать самодостаточным. Противопоставление чистое/нечистое представляет собой (когда оно не выражено метафорически) стремление к идентичности, к различию. Оно занимает место полового различия (и в этом смысле может показаться, как и в кастовой системе, параллельным установлению эндогамным браком бисексуальности). Отсюда, она выполняет функцию ценности разделения, присущей самой символической функции (жрец/жертва/Бог; субъект/вещь/смысл). Иерархия, основанная на чистом и нечистом, перемещает (или отрицает?) половое различие; она замещает насилие жертвоприношения ритуалом очищения. В итоге противопоставление чистое/нечистое не является вещью в себе, она следует из необходимости говорящего субъекта противостоять половым различиям и символическому. Индийская кастовая система позволяет провести это противоборство мягко. Она организует его без резкости — например, монотеистической — и с максимумом детальных предначертаний, защищающих субъекта, который от отвращения к отвращению постоянно с этим сталкивается. Наградой — социальная неподвижность и идентификация, того, что будет, в другом месте, субъективной автономией, с правилами отвращения, которыми расчерчена эта социально-символическая территория. Иерархия конституирует индийского человека (и может быть, любое говорящее существо, если оно не отказывается от своей принадлежности к символическому), но основывается на двух первичных несоответствиях: знаке (который прославляется жертвоприношением), половом различии (которое регулируется браком). Если это верно то, что чистое/нечистое занимает ту область, что у нас восходит к противопоставлению добро/зло, то граница, о которой идет речь, получает в кастовой иерархии и соответствующей ей, укрепляющей ее матримониальной регламентации глубокую логику говорящего существа, отделенного полом и языком. В Индии есть незаменимое преимущество раскрыть объектную логику этого отделения и разложить свойственным ей ненасильственным способом асимптоты [116]между сексуальностью и символизмом, уравновешивая различия в том, что касается сексуальности, умножая и до крайности детализируя отделения в том, что касается символического.
Трагическая и прекрасная судьба Эдипа подытоживает и перемещает мифический позор, который полагает нечистоту по «ту другую» неприкасаемую сторону другого пола, в границы тела — этот покров желания — и, более фундаментально, в женщину мать — миф естественного изобилия. Чтобы в этом убедиться, надо последовать за Царем Эдипом и особенно за Эдипом в Колоне Софокла.
Государь, знающий, как отгадать логические загадки, царь Эдип тем не менее не ведал о своем желании: он не знал, что он является также тем, кто убил Лая, своего отца, и женился на Иокасте, своей матери. Оставаясь завуалированным, это убийство, как и это желание, было лишь оборотной, но, со всей очевидностью, солидарной стороной его логической и, следовательно, политической силы. Отвращение проявляется только тогда, когда подталкиваемый своим желанием знать к собственным границам, Эдип обнаруживает в своей сущности государя желание и смерть. Которые он приписывает полной, знающей и ответственной верховной власти. Решение тем не менее остается в Царе Эдипе полностью мифическим: это исключение, которое мы уже видели в логике других мифических и ритуальных систем.
Прежде всего пространственное исключение: Эдип должен отправиться в изгнание, покинуть собственное место, где он государь, отодвинуть позор так, чтобы Фивы не перешли границ общественного договора.
В то же самое время исключение зрения: самоослепление Эдипа, чтобы не переживать вида объектов его желания и его убийства (лица его жены, его матери, его детей). Если это верно то, что эта слепота — эквивалент кастрации, то она не является ни устранением, ни смертью. По отношению к ним, она — символический заместитель, предназначенный выстроить стену, укрепить границы, отодвигающие срам, который уже тем самым не признается, а описывается как чуждый. Эта слепота — пример расщепления: она отмечает, в том числе на теле, изменение от чистоты к позору — рубец, взявшийся из раскрытого и тем не менее невидимого отвращения. Из отвращения как из невидимого. Благодаря которому город и познание могут продолжаться.
Остановимся еще на трагическом действии Царя Эдипа: не является ли оно итогом мифического варианта отвращения? Входя в нечистый город — в miasma — Эдип навлек на себя agos, позор, чтобы очистить город и стать katharmos. Очистивший, он тем самым и есть agos. Его отвращение держится за эту постоянную двусмысленность ролей, которые он взял на себя, сам того не зная, тогда когда он думал, что знает. [117] И именно эта динамика переворачиваний превращает его и в предмет отвращения, и в pharmakos, козла отпущения, который, изгнанный, дает возможность освободить город от позора. Сила трагедии в этой двусмысленности [118]: запрет и идеал сочетаются в одном персонаже, чтобы обозначить, что у говорящего существа нет собственного пространства, что он удерживается на шатком пороге силой какого-то невозможного ограничения. Если это логика pharmakos katharmos, которым представляется Эдип, приходится признать, что сила пьесы Софокла не только в этом расчете двусмысленности, но совершенно семантическим значениям, которые она дает противоположным терминам. Что за «значения»?
Фивы — это miasma из-за бесплодности, болезни, смерти. Эдип — это agos тем, что он убийством отца и инцестом с матерью нарушил и прервал цепь воспроизводства. Позор — это остановка жизни: (как) сексуальность без воспроизводства (сыновья Эдипа от инцеста погибнут, а дочери выживут лишь в другой логике — логике договора или символического существования, как мы это увидим в Эдипе в Колоне). Некоторая сексуальность, которая не имела в греческой трагедии того значения, что она имеет для современности, которая хвастается не удовольствием, а верховной властью и знанием, равнозначна болезни и смерти. Позор смешивается с ней: он состоит практически в том, чтобы дотронуться до матери. Позор — это инцест как нарушение пределов чистого.
Итак, где же проходит граница, первый фантазматический предел, который конституирует собственное говорящего и/или социального существа? Между мужчиной и женщиной? Или между матерью и ребенком? Может быть между женщиной и матерью? Женский ответ pharmakos-Эдипу — это Иокаста, сама как Янус, двусмысленность и перевертыш в одном лице, одной роли, одной функции. Янус, как, может быть, всякая женщина в той степени, в которой всякая женщина одновременно — вожделеющее, то есть говорящее, существо, и воспроизводящее существо, то есть отделяющая от себя своего ребенка. Эдип, может быть, совершил лишь то, что он женился на расщепленности Иокасты: тайна, загадка женственности. В конце концов, если кто и персонифицирует отвращение без всякой надежды на очищение, так это женщина, «всякая женщина», «женщина вся в этом»; мужчина, он обретает отвращение, когда познает ее и тем самым очищает. Иокаста, безусловно, — это miasma, agos. Но только Эдип является pharmakos. Он знает и верит в мифический мир, конституированный вопросом о различии (половом) и занятый разделением двух сил: воспроизводство/производство, женское/мужское. Эдип завершает этот мир, вводя его в отдельное существование каждого индивидуума, который неизбежно становится тогда pharmakos, универсально трагичным.