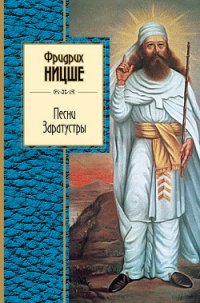Веселая наука - Ницше Фридрих Вильгельм (читаем книги TXT) 📗
К критике святых
Неужели, для того чтобы обладать добродетелью, нужно стяжать ее именно в самом жестоком ее виде, как этого хотели и в этом нуждались христианские святые? Жизнь была им сносной только при мысли о том, что от одного вида их добродетели каждого очевидца охватывает самопрезрение. Но добродетель с таким воздействием я называю жестокой.
О происхождении религии.
Вовсе не в метафизической потребности лежит происхождение религий, как этого хочет Шопенгауэр; она сама есть лишь отпрыск последних. Под господством религиозных мыслей свыклись с представлением об “ином (заднем, нижнем, высшем) мире”, и с уничтожением религиозного бреда испытывают неприятную пустоту и лишение — из этого-то чувства и вырастает снова “иной мир”, на сей раз, однако, не религиозный, а лишь метафизический. Но то. что в незапамятные времена вообще вело к допущению “иного мира”, было не стремлением и не потребностью, а заблуждением в толковании определенных естественных процессов, интеллектуальным затруднением.
Величайшая перемена.
Переменились освещение и краски всех вещей! Нам уже не полностью понятно самое близкое и самое привычное, как чувствовали его древние, — например, день и бодрствование: оттого, что древние верили в сны, сама бодрственная жизнь представала в ином освещении. И равным образом вся жизнь, с отражением смерти и ее значения: наша “смерть” есть совершенно другая смерть. Все переживания светились иначе, ибо некое Божество просвечивало из них; все решения и виды на далекое будущее в равной степени, ибо имели оракулов и тайные знамения и верили в предсказания. “Истина” ощущалась иначе, ибо прежде и безумный мог быть ее глашатаем, — нас это содрогает или смешит. Каждая несправедливость иначе воздействовала на чувство, ибо страшились божественного воздаяния, а не только гражданского наказания и позора. Какая радость царила в то время, когда верили в черта и искусителя! Какая страсть, когда взору представали демоны, засевшие в засаду! Какая философия, когда сомнение ощущалось прегрешением опаснейшего рода, именно, хулой на вечную любовь, недоверием ко всему, что было хорошего, высокого, чистого и милосердного! — Мы наново окрасили вещи, мы непрестанно малюем их, — но куда нам все еще до красочного великолепия того старого мастера! — я разумею древнее человечество.
Homo poeta.
“Я сам, я, собственноручно создавший эту трагедию трагедий, в той мере, в какой она готова; я, впервые ввязавший в существование узел морали и так затянувший его, что распутать его под силу разве что какому-нибудь богу — так ведь и требует этого Гораций! — я сам погубил теперь в четвертом акте все богов — из моральных соображений! Что же выйдет теперь из пятого! Откуда еще взять трагическую развязку! — Не начать ли мне думать о комической развязке?”
Различная опасность жизни.
Вы вовсе не знаете, что вы переживаете: вы бежите, словно пьяные, по жизни и валитесь временами с лестницу. Однако, благодаря вашему опьянению, вы не ломаете при этом себе конечностей: ваши мускулы слишком вялы, а голова слишком мутна, чтобы вы находили камни этой лестницы столь твердыми, как мы, другие! Для нас жизнь есть большая опасность: мы из стекла — горе, если мы столкнемся! И все конечно, если мы упадем!
Чего нам недостает.
Мы любим великую природу и открыли ее себе: это происходит оттого, что нашим мыслям недостает великих людей. Совсем иное греки: их чувство природы было другим, чем у нас.
Влиятельнейший.
Что какой-нибудь человек сопротивляется всему своему времени, задерживает его у ворот и привлекает к ответственности, это должно оказывать влияние! Хочет ли он этого, безразлично; главное, что он может это.
Mentiri.
“Берегись! — он призадумался: сейчас у него будет готова ложь. Это — ступень культуры, на которой стояли целые народы. Пусть припомнят, что выражали римляне словом mentiri!
Неудобное свойство.
Находить все вещи глубокими — это неудобное свойство: оно вынуждает постоянно напрягать глаза и в конце концов всегда находит больше, чем того желали.
Каждой добродетели свое время.
Кто нынче непреклонен, тому часто его честность причиняет угрызения совести: ибо непреклонность принадлежит к добродетелям иной эпохи, чем честность.
В обращении с добродетелями.
Можно и по отношению к добродетели вести себя недостойно и как подлиза.
Любителям времени. >
Поп-расстрига и освобожденный каторжник непрерывно “делают лицо”: чего они хотят, так это лица без прошлого. — Но доводилось ли вам уже видеть людей, которые знают, что на их лице отражается будущее, и которые столь вежливы по отношению к вам, вы, любители “времени”, что делают лицо без будущего?
Эгоизм.
Эгоизм есть закон перспективы в ощущениях, по которому ближайшее предстает большим и тяжелым, тогда как по мере удаления все вещи убывают в величине и весе.
После большой победы.
Лучшее в большой победе то, что она отнимает у победителя страх перед поражением. “Почему бы однажды и не понести поражение? — говорит он себе. — Я теперь достаточно богат для этого”.
Ищущие покоя.
Я различаю умы, ищущие покоя, по множеству темных предметов, которыми они обставляют себя: кому хочется спать, тот затемняет комнату или заползает в нору. _ Намек тем, кто не знают и хотят знать, чего, собственно, они ищут больше всего!
О счастье отрекающегося.
Кто основательно и надолго запрещает себе что-либо, тот при случайном и новом соприкосновении с этим почти мнит себя его открывателем — а как счастлив каждый открыватель! Будем умнее змей, которые слишком долго лежат на том же солнцепеке.
Всегда в своем обществе.
Все, что одного типа со мной, в природе и истории, обращается ко мне, восхваляет меня, влечет меня вперед, утешает меня — ничего другого я не слышу или сразу же забываю. Мы всегда — только в своем обществе.
Мизантропия и любовь.
Лишь тогда говорят о том, что пресытились людьми, когда не могут их больше переваривать, хотя желудок еще заполнен ими. Мизантропия есть следствие слишком ненасытной любви к людям и “людоедства” — но кто же просил тебя глотать людей, как устриц, мой принц Гамлет?
Об одном больном.
“Его дела плохи!” — Чего же ему недостает? — “Он страдает ненасытным желанием быть восхваленным и не находит пищи для этого”. — Непостижимо! Весь мир славит его, и его носят не только на руках, но и на устах! — “Да, но он туговат на похвалу. Когда его хвалит друг, ему слышится, будто этот последний хвалит самого себя; когда его хвалит враг, это звучит ему так, словно бы последний сам хотел быть за это восхваленным; когда, наконец, его хвалит кто-либо другой — а других не так уж и много: настолько он знаменит! — его оскорбляет то, что не хотят иметь его другом или врагом; он говорит обыкновенно: “Что мне до того, кто даже по отношению ко мне способен еще корчить из себя праведника!”
Открытые враги.