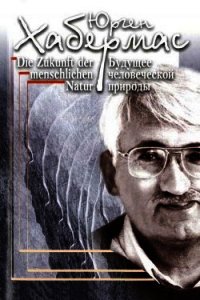Вовлечение другого. Очерки политической теории - Хабермас Юрген (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений txt) 📗
В конечном счете Ролз объясняет значение практического разума в двух измерениях; с одной стороны, он ссылается на деонтологическое измерение присущей нормам значимости долженствования (что я здесь оставляю в стороне как не вызывающее сомнений), а с другой стороны — на прагматическое измерение публичности, в рамках которой происходит обоснование норм (что в нашей связи представляет особый интерес). Разуму, так сказать, вменена публичность его употребления. «Публичной» называется совместная перспектива, в которой граждане силой лучших аргументов взаимно убеждают друг друга в том, что справедливо, а что — нет. Только такая разделяемая всеми перспектива публичного употребления разума и придает моральным убеждениям их объективность. «Объективными» Ролз называет действенные нормативные высказывания; и их объективность он обосновывает процедурным способом, т. е. ссылаясь на публичное употребление разума, которое удовлетворяет определенным контрафактическим условиям: «Политические убеждения (которые также являются и моральными) объективны — действительно основаны на каком-либо порядке причин, — если разумные и рациональные личности, достаточно сведущие и добросовестные в применении своих способностей практического разума… в конечном счете одобряют эти убеждения… при том, что эти лица знакомы с релевантными фактами и в достаточной мере изучили относящиеся к делу основания в условиях, благоприятных для надлежащей рефлексии». [116] Правда, Ролз в этом месте прибавляет, что основания квалифицируются как веские лишь в силу того, что то или иное понимание справедливости уже получило признание; но ведь и этот концепт, в свою очередь, должен был найти одобрение в тех же самых идеальных условиях. [117] Поэтому Ролза, по всей видимости, следует понимать так, что и с его точки зрения процедура публичного употребления разума остается последней инстанцией при испытании нормативных высказываний.
В свете приведенных соображений можно сказать, что предикат «разумный» связан с выполнением подтвержденного в дискурсе притязания на значимость. По аналогии с несемантическим пониманием истинности, очищенным от представлений о корреспонденциях, мы могли бы понимать «разумное» как предикат, выражающий действенность нормативных высказываний. [118] По-видимому, Ролзу не хотелось бы делать такой, по моему мнению, правильный вывод; в противном случае ему следовало бы избегать рискованного словоупотребления, согласно которому картины мира, даже если они «разумны», могут не быть «истинными», и наоборот. Проблема состоит не в том, что Ролз отвергает инспирированный платонизмом ценностный реализм и потому отказывает нормативным высказываниям в семантически понимаемом предикате истинности, но в том, что он приписывает такой предикат картинам мира — comprehensive doctrines [119]. Тем самым он лишает себя возможности оставить за выражением «разумный» эпистемические коннотации, которые ему необходимо сохранить как атрибут своей собственной концепции справедливости, если последняя хочет претендовать на какую-либо нормативную обязательность.
б). Согласно Ролзу, метафизические учения и религиозные толкования мира могут быть истинными или ложными. Вследствие этого концепция политической справедливости могла бы быть истинной лишь в том случае, если бы она была не только совместима с такими доктринами, но и выводима из некоей истинной доктрины. Однако с мировоззренчески нейтральной точки зрения политической философии мы не в состоянии определить, так ли это. С этой точки зрения притязания на истинность всех разумных картин мира имеют одинаковую цену, причем разумными называются те точки зрения, которые конкурируют друг с другом в рефлексирующем сознании за право с помощью лишь лучших оснований реализовать собственные притязания на значимость в долгосрочном публичном дискурсе. «Разумные всеобъемлющие учения» характеризуются в конечном счете лишь признанием того, что они отягощены «бременем доказательств», так что конкурирующие в предметах своей веры общности в состоянии принять — for the time being [120] — «разумные разногласия» в качестве основы мирного сосуществования.
Поскольку ныне, в условиях утвердившегося плюрализма, спор о метафизических и религиозных истинах остается незавершенным, до поры до времени лишь «разумность» этого рефлексирующего сознания в качестве предиката значимости разумных картин мира может быть перенесена на концепцию политической справедливости, которая совместима со всеми доктринами такого разумного вида. Хотя по идее концепция разумной справедливости сохраняет связь с отсроченным на какое-то время притязанием на истинность, для нее тем не менее не может быть уверенности в том, что среди разумных доктрин, откуда ее можно вывести, есть хотя бы одна, которая является вместе с тем и истинной. Она живет исключительно «разумом» лессинговской терпимости к неразумным картинам мира. Нам, детям мира, остается при этом довольствоваться актом веры в разум — актом «разумной веры в возможность построения справедливо устроенного государства». [121] Такая точка зрения весьма привлекательна; но как она согласуется с теми основаниями, в силу которых мы с Ролзом признали первенство справедливого перед благим?
Вопросы справедливости доступны обоснованному — в смысле рациональной приемлемости — решению, ибо исходя из идеально расширенной перспективы касаются того, что представляет равный интерес для всех. В противоположность этому «этические» вопросы в узком смысле слова не допускают такой связующей все моральные личности оценки, ибо исходя из перспективы первого лица касаются того, что для меня или для нас (для определенного коллектива) в целом и на протяжении долгого времени считается благим, пусть даже и не для всех в равной степени. Однако метафизические и религиозные картины мира по меньшей мере обременены возможными ответами на основные этические вопросы, ведь в них на основе тех или иных примеров формулируются коллективные жизненные проекты и идентичности. Поэтому картины мира ограничиваются, скорее, вопросами аутентичности созданных ими стилей жизни, а не вопросами истинности содержащихся в них высказываний. Поскольку такие доктрины являются «всеобъемлющими» именно в том смысле, что они толкуют мир в целом, они, в отличие от теорий, не могут быть поняты в качестве множества упорядоченных дескриптивных высказываний; они не растворяются в истинностно-релевантных предложениях и не образуют символической системы, которая как таковая может быть истинной или ложной. Во всяком случае, так нам кажется в условиях постметафизического мышления, в которых мы пытаемся дать обоснование справедливости как честности.
Однако в этом случае действенность концепции справедливости невозможно поставить в зависимость от какой бы то ни было, пусть даже и «разумной», картины мира. При таких посылках имело бы больше смысла проанализировать различные притязания на значимость, которые мы связываем с дескриптивными, оценочными и нормативными высказываниями (различных типов), независимо от характерного синдрома, присущего тем притязаниям на значимость, которые смутно накапливаются в религиозных и метафизических толкованиях мира. [122]
Почему же тем не менее Ролз считает, что стабилизирующие ту или иную идентичность картины мира в целом способны оказаться истинными? Возможной причиной тут могло стать убеждение, что профанной, так сказать, независимой морали быть не может, что моральные убеждения должны входить в состав метафизических или религиозных учений. Во всяком случае это согласовывалось бы с тем, как Ролз представляет себе проблему перекрывающего консенсуса: в качестве модели ему видится та институциализация свободы вероисповедания и совести, которая путем политического урегулирования положила конец конфессиональным гражданским войнам Нового времени. Но разве смогли бы мы вообще положить конец религиозным распрям в духе принципа терпимости, если бы нраву на свободу вероисповедания и совести — а оно, согласно Еллинеку, образует ядро прав человека — не было позволено с полным на то основанием ссылаться на моральную значимость по эту сторону религии и метафизики?