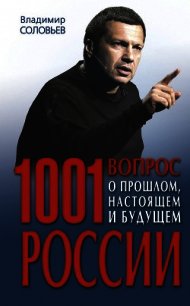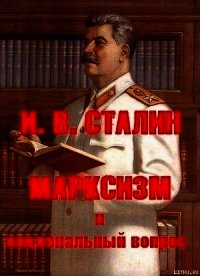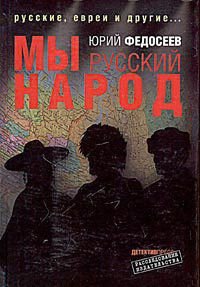Национальный вопрос в России - Соловьев Владимир Сергеевич (книги онлайн TXT) 📗
Но еще важнее этого внешнего объединения исторического человечества в Римской империи было развитие самой идеи единого человечества. Среди языческого мира [34] эту идею не могли выработать ни восточные народы, слишком подчиненные местным условиям в своем мировоззрении, ни греки, слишком самодовольные в своей высокой национальной культуре и отождествлявшие человечество с эллинизмом (несмотря на отвлеченный космополитизм кинической и стоической школы). Величайшие представители собственно греческой мысли, Платон и Аристотель, не были способны подняться до идеи единого человечества. Только в Риме нашлась благоприятная умственная почва для этой идеи: с полною определенностью и последовательностью ее поняли и провозгласили римские философы и римские юристы.
Тогда как великий Стагирит возводил в принцип и объявлял навеки неустранимою противоположность между эллинами и варварами, между свободными и рабами, такие, сравнительно с ним неважные, философы, как Цицерон и Сенека, одновременно с христианством возвещали существенное равенство всех людей. «Природа предписывает, – писал Цицерон, – чтобы человек помогал человеку, кто бы тот ни был, по той самой причине, что он человек» (hoc natura praescribit, ut homo homini, quicumque sit, ob earn ipsam causam quod is homo sit, consultum velit [35] ). – «Должно сходиться в общении любви со своими, за своих же почитать всех соединенных человеческою природою» [36] . – «Мудрый признает себя гражданином всего мира, как бы одного города» [37] . – «Все мы, – пишет Сенека, – члены одного огромного тела. Природа хотела, чтобы мы все были родными, порождая нас из одних и тех же начал и для одной и той же цели. Отсюда происходит у нас взаимное сочувствие, отсюда общительность; справедливость и право не имеют иного основания. Общество человеческое похоже на свод, где различные камни, держась друг за друга, обеспечивают прочность целого» [38] . Уже Цицерон, исходя из идеи солидарности всего человечества, заключал, что права войны должны быть ограничены. Сенека же осуждает войну безусловно. Он спрашивает, почему человек, убивающий другого, подвергается наказанию, тогда как убийство целого народа почитается и прославляется? Разве свойство и имя преступления изменяются от того, что его совершают в воинской одежде? С той же точки зрения Сенека самым решительным образом восстает против боя гладиаторов и провозглашает за семнадцать веков до Канта, что человек не может быть только средством для человека, а имеет свое собственное неприкосновенное значение: homo res sacra homini (человек – святыня человеку). Этот принцип Сенека распространяет как на чужеземцев, так и на рабов, за которыми он признает всю силу человеческих прав. Он восстает против самого имени рабства и хочет, чтобы рабов звали «смиренными друзьями» – humiles amici. [39]
Подобные мысли не были в Риме только убеждением отдельных лиц или учением какой-нибудь философской школы (как у греческих стоиков). Идея существенного равенства всех людей есть неотъемлемая принадлежность римского права. Самое понятие: jus naturale, установленное римскими юристами, совершенно отрицает всякую коренную и непреложную неравномерность между людьми и народами. Вопреки Аристотелю, утверждавшему в своей политике, что есть племена и люди, самою природою предназначенные к рабству, римские юристы решительно заявляли, что все родятся с одинаковым естественным правом на свободу и что рабство есть лишь позднейшее злоупотребление (utpote cum jure naturali omnes liberi nascerentur, sed postea... servitus invasit [40] ).
Если внешнее единство Римской империи с ее военными дорогами материально облегчило и ускорило всесветное распространение евангельской проповеди, как это замечали еще древние христианские писатели [41] , то гуманитарные начала римских юристов и римских философов подготовили умственную почву для восприятия самой нравственной идеи христианства, по существу своему общечеловеческой и сверхнародной. Предание о личном знакомстве апостола Павла с Сенекой, сомнительное фактически, верно указывает на естественное сродство между универсализмом римского разума, завершившим историю язычества, и началом новой универсальной религии, оживившей объединенное в Риме человечество. Сенека, отрицающий войну и рабство, и апостол Павел, провозглашающий, что отныне нет более разделения между эллином и варваром, рабом и свободным, – эти два лица из двух столь далеких «культурно-исторических типов» были, во всяком случае, близки между собою, независимо от личных свиданий и переписок. Случайное знакомство двух исторических лиц есть только любопытный вопрос, но совпадение двух разнородных мысленных течений в одной универсальной идее есть несомненное и огромное событие, которым обозначилось самое средоточие всемирной истории. А если единой всемирной истории нет, если существуют только национальные или племенные культуры, то как понять и объяснить эту духовную связь между языческим философом из Испании и христианским апостолом из Иудеи, которые сошлись в Риме, чтобы проповедовать всечеловеческое единство?
Как ни далека еще наша действительность от исполнения нравственных требований апостола Павла или хотя бы Сенеки, но проповедь всечеловеческого единения не пропала даром. Из нее вышел новый культурный мир, который при всех своих практических грехах, при всех своих частных разделениях и междоусобиях все-таки представляет великое идеальное единство племен и народов, настолько превосходящее, и объемом и глубиною, единство Римской империи, насколько сама эта империя превосходила все бывшие до нее попытки всемирного владычества. Народы новой христианской Европы, восприняв зараз из Рима и из Галилеи истину единого по природе и по нравственному назначению человечества, никогда не отрекались в принципе от этой истины. Она осталась неприкосновенною даже для крайностей возродившегося в нынешнем веке национализма. Сам Фихте ставил немецкий народ на исключительную высоту только потому, что видел в этом народе сосредоточенный разум всего человечества, единого и нераздельного. Только русскому отражению европейского национализма принадлежит сомнительная заслуга – решительно отказаться от лучших заветов истории и от высших требований христианской религии и вернуться к грубо языческому, не только дохристианскому, но даже доримскому воззрению.
Принимаясь за свой труд под влиянием искреннего, хотя слишком узкого и неразумного патриотизма, покойный Данилевский имел в виду практическую цель: поднять национальную самоуверенность в русском обществе и исцелить его от болезни «европейничанья». Но, при очевидной невозможности прямым образом доказать великую культурную самобытность России и ее коренную и окончательную отдельность от Европы, наш автор вынужден был избрать для своей цели окольный путь общих теоретических соображений. На этом пути он открыл (так, по крайней мере, ему показалось) новую «естественную систему» истории, из которой с необходимостью следовали желательные для него заключения об отношениях между Россией и Европой [42] . Переходя теперь к разбору этой предполагаемой «естественной системы» и ее применения к России, я и тут должен напомнить добросовестным читателям, что разбираемый мною автор мог со всех сторон и до конца высказывать свои воззрения, тогда как я далеко не имею этого преимущества. Поэтому, отвечая за все, что я говорю, я никак не могу брать на себя ответственность за то, о чем мне приходится умалчивать.