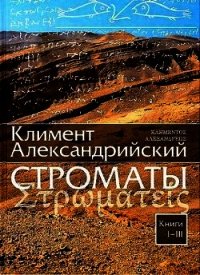Основы христианской философии - Зеньковский Василий Васильевич (читать книги онлайн полностью TXT) 📗
Обратимся к третьему виду оценки бытия — моральному, который кажется еще менее связанным с познанием, чем эстетическая оценка. Ярче других выразил это Спиноза в своем категорическом утверждении, что к природе неприменимы категории добра и зла, так как в природе все совершается по необходимости.
7. Конечно, когда мы различаем в природе добро и зло, мы переносим на явления природы наши человеческие моральные суждения,— но как решиться утверждать, что в самой природе не действуют моральные начала (в соответствии с которыми и можно было бы говорить, что «должно быть» в отличие от того, что «есть»)? Когда мы огорчаемся смертью какого-либо близкого нам домашнего животного (собаки, лошади и т. п.), то в чувстве утраты, кроме чисто личной скорби, что возле нас нет любимого животного, зло смерти тоже переживается нами — с большей или меньшей силой. Смерть и даже болезни в мире вызывают не одну «симпатическую тревогу», не одно чувство потери нами тех, кого мы любим или кто нам нужен. Отбрасывая всякие фантастические «вчувствования» (Einfuhlund) в отношении живых существ, слишком антропоморфные (чем не зачеркивается, однако, правда этих вчувствований), мы все же всегда — с большей или меньшей ясностью — сознаем зло смерти, страданий. Борьба за существование, царящая в природе и как будто неотъемлемо связанная с законами жизни, вызывает у нас тем больший «протест», чем глубже чувствуем мы тайну жизни в мире. Мы не можем «принять» духовно, т. е. без протеста вместить в себя и случайные и не случайные страдания, смерть, которые окружают нас на каждом шагу. Как раз в свете той самой жизни, которой живет мир, в свете многообразия и красоты форм жизни, неистощимой силы в мире (natura naturans Спинозы) — в свете этой таинственной «рождающей силы» природы, обожествляемой в дохристианских религиях (культ «Матери-земли», «великой матери богов» и т. п. [60]) — факт борьбы за существование, ведущей постоянное истребление низших видов жизни высшими, факт смерти есть для нашего морального сознания несомненное объективное зло. И наше моральное сознание не есть просто перенесение наших человеческих оценок на явления природы; наоборот, наше моральное сознание твердо говорит нам, что болезни, страдания, смерть всюду есть зло.
В этом заключено оправдание нашего права в оценках бытия, права при составлении полной истины о бытии вносить сюда и моральный момент. Та идея поврежденности мира, которая с такой силой просится в сознание при эстетической оценке бытия, здесь получает новый, можно сказать трагический, смысл. Поврежденность мира не есть просто некое несчастье, вошедшее в мир, но есть трагедия мира, потому что именно поврежденность мира и обрекла мир на болезни, страдания, смерть.
Ну разве это не чистая фантастика, скажут те, кто привык к тому, что в мире разлита скорбь (как это глубоко чувствовал Шопенгауэр, у нас Сковорода, говоривший о «скрытых рыданиях мира»)? Какие основания «воображать» себе какой-то иной мир, в котором «лев ложится рядом с ягненком», не обижая его, в котором никто не стареет, не болеет, не умирает? Не чистая ли глупость воображать мир без этого? Но в этой «глупости» скрыта глубокая правда о мире, о котором так необыкновенно говорил ап. Павел, что «весь мир стенает и мучится, пока не войдет в славу сынов Божиих», что «мир подчинился суете не добровольно». Это замечательное Откровение о мире, которое мы находим у ап. Павла (Рим. 8, 20), есть основа христианского учения о мире — и мы в свете его понимаем всю правду и ценность внесения моральной оценки во всякую истину о бытии.
8. Мы говорили до сих пор о мире как о предмете познания, но есть в мире одна его часть, которая требует (в вопросе о предмете познания) особого внимания и дальнейшего анализа: это человек. Человек входит в мир, подчинен его законам, зависит от всей окружающей его живой и неживой природы, вообще есть «часть» мира,— а в то же время эта «часть» мира как-то оказывается больше всего мира в целом,— ибо она, познавая мир, овладевает им, хозяйничает в нем, меняет лик природы, раскрывает ее скрытые в недрах мира силы. Эта мощь человека, возвышающая его над природой и не раз дававшая повод к учению о двойном составе человека — о тварной и нетварной природе в нем,— конечно, требует особого изучения. Философская антропология за века философской жизни накопила много разных теорий о человеке [61],— и мы не будем входить в разные проблемы антропологии, которые должны нас занимать в III томе задуманной нами трилогии. В настоящей главе нас занимает только та сторона проблемы антропологии, которая относится к человеку как предмету познания.
Без всяких дальнейших рассуждении ясно, что познание человека во многом иное, чем познание природы в самых высших сферах ее, так как кроме внешнего изучения человека, аналогичного познанию мира вообще, человек доступен самому себе и изнутри — в том беспредельном внутреннем мире, который обнимает сферу сознания, полусознания и, наконец, бессознательную сферу [62]. Это поистине беспредельный мир, ибо душа, по известному выражению, «дна не имеет». Как хорошо сказал когда-то Герцен, в каждой душе «дремлют целые миры», которые могут остаться в этом состоянии «дремоты», не раскрывшись (даже для самого себя). Важно и то обстоятельство, что наличность социального общения, столь богатая у людей благодаря речи, делает возможным дальнейшее обогащение внутреннего мира какого-либо человека всем тем, что живет во внутреннем мире другого человека.
Насколько весь этот внутренний мир человека может быть объектом познания и насколько это познание может быть «адекватно» (adaequatio rei) внутреннему нашему миру? Самопознание таится уже в глубинах самосознания, которое можно охарактеризовать как первичный материал для самопознания. Однако этот материал часто является трудно уловимым; вокруг более ясной сферы самопознания располагаются другие сферы со все возрастающим потемнением их,— часто мы только чувствуем их наличие — и только. Так или иначе, в первичном самосознании, насколько этот материал задерживается в памяти, перед нами выступает именно материал познания. Однако нельзя при этом не считаться с тем, что давно характеризовалось как «ложь сознания». Самосознание вовсе не является «нейтральной средой», которая передает без искажения то, что в нее входит: на каждом шагу в самосознании мы имеем дело именно с искажением первичного материала, с его обработкой (в глубинах подсознательной сферы). Этот факт, не случайный во внутренней жизни души, в то же время очень затрудняет познание, в строгом смысле «воспроизведение действительности». Но несмотря на это, познание нашего внутреннего мира все же возможно,— даже эспериментальное исследование (не само по себе, а по тем «протоколам», которые ведут исследуемые [63]) возможно.
В изучении «глубины» души много сделал Фрейд. Он напрасно, без серьезных оснований, окрасил в тона детерминизма те внутренние процессы, которые происходят за порогом сознания, но ему наука о душе действительно очень многим обязана в уяснении тех внутренних процессов, которые происходят в психическом «подполье». Работы Адлера и особенно школа Юнга продолжили работу по изучению Tiefenpsychologie [64], но все они напрасно думают, что они дошли до «дна» души. На дне души, позади даже той завесы, которую приоткрыли работы Фрейда, Адлера, Юнга и других, есть жизнь, которую мы можем познавать по ее последующим проявлениям — и тут мы совершенно вправе использовать многосмысленное библейское понятие «сердца» как средоточия духовной жизни. Все упомянутые исследователи зондировали только душевные процессы,— и там, где они касались духовной жизни, там они брали ее в ее психических отражениях, не отдавая себе отчета в иноприродности душевных и духовных состояний в человеке. Исследование духовной жизни, так далеко подвинутое у отцов аскетов христианского Востока и Запада, все же остается в начальной стадии; вся диалектика духовной жизни, сплетающаяся почти неисследимо с потоком психической жизни, остается во многом закрытой, ив многочисленных записях выдающихся духовных людей мы лишь приближаемся к жизни духа внутри нас.