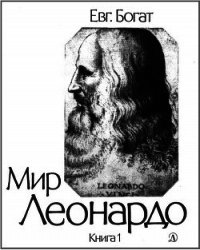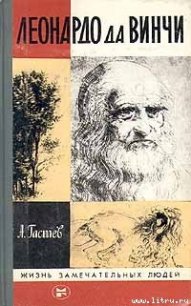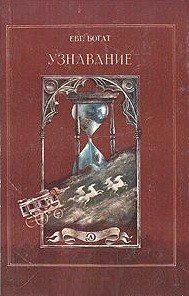Мир Леонардо. Книга 2 - Богат Евгений Михайлович (книги регистрация онлайн TXT) 📗
Разумеется, Леонардо не находил красоты в картинах казней, войн, стихийных разрушений. «Все действительное красиво» — не оправдание уродств, а оправдание жизни человека и мира, вера в их торжество над уродствами.
Немало писалось о жестоких и трагикомических рисунках Леонардо, в которых он запечатлевал безобразные лица. Его пленяло все необычное, все исключительное, все экзотическое. Но этот же человек написал лица женщин, о которых Стендаль говорил, что они действуют на человеческое сердце, как целебный бальзам, залечивая его раны. Он умел создавать высшую красоту — красоту, которой, может быть, в реальной жизни и нет, потому что видел мир и человека красивыми несмотря ни на что… Даже в его уродливых мужских лицах, лицах-гротесках мы видим не монстров, а людей. У Леонардо чисто шекспировское отношение к человеку.
Точно так же, как Шекспир даже в Шейлоке, жестоком ростовщике, ростовщике-палаче, сумел увидеть (что восхищало потом в течение веков поколения гуманистов) страдающую и взыскующую к высшей справедливости личность, так и Леонардо в безобразных, с нечеловечески огромными носами и ртами лицах стариков, которых заносил на бумагу его «бесстрастный», его «ледяной» карандаш, видел в первую очередь человека.
Он видел в них человека, который почти утратил человеческий облик и сохранил в себе при этом ту каплю человечности, что дает надежду на воскрешение, на воссоздание этого облика. Любой из его персонажей не менее многозначен и сложен, чем «Джоконда». В любом из его мужчин или женщин, по выражению Достоевского, «дьявол с богом борется». И даже когда дьявол, казалось бы, побеждает, Леонардо, запечатлевая этот момент, не забывает о том, что есть в мире и бог. И это тоже роднит его с Франциском Ассизским.
Леонардо жил в эпоху, когда бога видели в образе великого художника, гениального мастера, создающего мир и все в мире, как создают художники и мастера соборы, статуи, картины и бездну красивых, чудесных вещей, украшающих жизнь. Этот бог не мог быть зол, потому что злой художник рано или поздно лишается великой творческой силы.
В жестокую эпоху, когда и художники убивали, как убивал Бенвенуто Челлини, и самих художников тоже убивали, как был отравлен, если верить легенде, великий Мазаччо, Леонардо был первым — первым не только в эпоху Ренессанса, но и в истории человеческого духа, — кто ощутил зависимость творческой силы от нравственной основы. Леонардо был могучим художником именно потому, что он умел отличать зло от добра.
Иисус Христос в «Тайной вечере» — воплощение любви и добра. Иуда на той же фреске — олицетворение зла. Эти два образа, эти два антипода (повторю опять, потому что это «шифр» к тайне) не давались кисти Леонардо. Он написал уже лица всех апостолов, и окна в трапезной, и небо за окнами, и стол, и стаканы, и хлеб на столе, а Христа и Иуду дописать не мог долго-долго, может быть, потому, что все полнее понимал: абсолютного добра, как и абсолютного зла, в мире нет. Потом, после многолетних мучительных поисков, зарисовок, наблюдений, размышлений, ему удалось создать образ Иуды. Он написал лицо, в котором постарался воплотить мысль об абсолютном зле.
Но лицо Христа — единственное в этой картине — осталось незавершенным. Оно и незавершенное пленяет нас человечностью, не неземной — нет! — именно земной красотой, возвышенной мыслью, печалью и какой-то особой мягкостью, которая может оказаться могущественнее любой силы. И все же оно — мы этого не видим, не чувствуем, но взыскательный Леонардо понимал — не завершено. Он его не дописал до той степени завершенности, как остальные лица, потому что и при его гениальном мастерстве это было невозможно. Это было невозможно, ибо абсолютного добра в мире не существует. Абсолютное добро, как и абсолютная истина, — великая цель человека и человечества.
А абсолютное зло? Существует? Кисть Леонардо не ответила на этот вопрос. На него ответил XX век. Ответил Освенцимом, Равенсбруком, Бухенвальдом, Хиросимой, Нагасаки, ответил бомбой, которая упала в трапезную Санта-Мария делле Грацие, на одной из стен которой старились, меркли лица апостолов.
XX век ответил бомбой, упавшей на Леонардо — да, на него самого, потому что в этой фреске весь он, — и не убившей его. Смысл этого ответа в том, что абсолютное зло существует, но оно менее могущественно, чем неабсолютное добро, потому что — это замечено было древнейшими мыслителями Востока — все становящееся, растущее, тянущееся вверх сильнее того, что отвердело, окаменело, застыло. Лицо Иуды — окаменевшее, застывшее, несмотря на потрясающую экспрессию, яркость и выразительность охвативших его человеческих, точнее, нечеловеческих чувств.
Лицо Христа — как бегущая волна. Оно меняется, как живое лицо, оно живет, оно в становлении, в нем игра мысли, чувства и жизни. Оно — обещание рембрандтовских лиц, оно печально той печалью, о которой великий поэт XX века говорил, что она долговечнее стали и камня.
Второе неоконченное лицо Леонардо — Мона Лиза. В нем на первый взгляд поражает сочетание жестокости и беззащитности. Если верить историкам искусства, Леонардо не окончил его из-за непомерности тех чисто художнических целей, которые ставил перед собой, не окончил из-за стремления к совершенству, которое, может быть, и недостижимо. Это все верно. Леонардо все время хотел чего-то почти невозможного, его художническая взыскательность была выше возможностей даже гения, а критическая мысль порой господствовала над мыслью созидающей.
Все это верно. Но ведь у того же Леонардо все женские портреты, за исключением «Джоконды», закончены. Можно, конечно, на это возразить, что «Джоконда» больше, чем портрет женщины, что это духовный автопортрет самого Леонардо в образе женщины, которую он — может быть?! — если верить Мережковскому, любил. В «Джоконде» Леонардо дал одновременно портрет этой женщины, автопортрет этого художника (флорентийского живописца Леонардо да Винчи) и портрет этой эпохи (итальянского Ренессанса в момент его наивысшего взлета в искусствах, науках, в добре и зле). Но можно ли, в силах ли даже гениального мастера сочетать в одном лице три образа, один из которых (портрет эпохи) вообще вне «царства живописи»? Но дело даже не в этом. В конце концов, любой великий портрет — портрет определенного человека, отражающий одновременно и духовную жизнь мастера, и атмосферу времени. В этом смысле портреты Леонардо, Тициана, Рембрандта, Серова, несмотря на резкие «печати» индивидуальности и особенности кисти, решают одну и ту же задачу.
Леонардо все делал в степени, которая даже нормальные и естественные цели переносит в область недостижимости, настолько сама эта степень выше уровня «нормального» и «естественного». Поэтому то, что удавалось Рембрандту или Тициану довести до стадии завершенности, Леонардо могло и не удасться. Но «Джоконда» не завершена (нам-то она кажется завершенной, но Леонардо чувствовал ее неоконченность и потому не расставался с ней в странствиях), не завершена не только из-за грандиозности художнических целей, она не завершена, потому что Леонардо постоянно ставил перед собой — может быть, неосознанно — и философскую цель. Он жил в эпоху, когда стремление к некоему абсолюту было особенно сильным.
В сущности, в живописи Леонардо был искателем «философского камня», был великим алхимиком, он был великим алхимиком во всем: в поисках новых рецептов красок, которые сохраняли бы вечную молодость, в странных опытах по созданию несуществующих в мире существ (помните: щит — в юности, ящерицу — в старости?), он был алхимиком и в поисках некоего абсолюта. Абсолюта добра, абсолюта зла, абсолюта женственности, абсолюта мужественности, абсолюта мудрости.
И незавершенными были именно эти образы. Христос — абсолют добра. Иуда — абсолют зла. Джоконда — абсолют… женственности? Нет. Духовности? Нет. Беззащитности? Разумеется, нет, хотя и чувствуется в ней беззащитность. Жестокости? Разумеется, нет, хотя ощутима в ней и жестокость.
Абсолют чего же?
Абсолют человека. Абсолют жизни. Образ, в котором весь человек, вся жизнь. Все мужчины и все женщины, вся мудрость мира и все его заблуждения, вся его человечность и вся жестокость, вся его творческая мощь и бессилие создать мир, в котором был бы Христос, но не было бы Иуды.