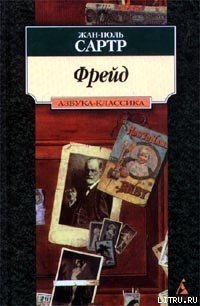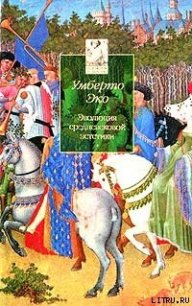Приготовительная школа эстетики - Рихтер Жан-Поль (читать книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
Инстинкт, или влечение, есть чувство грядущего; инстинкт слеп, но только слепотою уха к свету и глаза к звуку. Он означает и содержит в себе свой предмет, как причина — следствие; будь открыта нам тайна, каким образом действие, неизбежно данное полностью и одновременно с причиной, лишь спустя какое-то время следует за ней, мы понимали бы и то, каким образом инстинкт одновременно требует свой предмет, определяет, знает его, а между тем его лишен. Чувство, что мы чего-то лишены, предполагает наше родство с тем, что у нас отнято, а следовательно, уже и частичное обладание им; но нужно по-настоящему чувствовать, чтобы возникло влечение; не будь дальней цели, не было бы стремления к ней. Бывают круги телесно-органические, а бывают духовно-органические: так, свобода и необходимость или воление и мышление взаимно предполагают друг друга.
Далее, в чистом Я точно так же наличествует чувство грядущего, как в неочищенном Я и в животном, его предмет одинаково удален и достоверен; иначе природе с ее всеобычной правдивостью пришлось бы впервые солгать именно в сердце человека. Благодаря такому инстинкту духа, — который вечно предчувствует свои предметы и требует их безотносительно ко времени, ибо они существуют за пределами любого времени, — благодаря такому инстинкту духа только и возможно, чтобы человек выговаривал и понимал слова «земное», «мирское», «временное», ибо только этот инстинкт придает им смысл — через противоположность. Если уж самый заурядный человек на жизнь и на все земное смотрит как на одну часть, как на неполноту, то лишь созерцание предполагаемого целого вкладывает в него меру раздробленности. Даже для самого низменного реалиста, идеи которого и дни волочатся вперед на ножках и на кольцах гусеницы, даже для него нечто безымянное суживает широту жизни; он не может не признать эту жизнь за смутно-животную, или мучительно-лживую, или за пустую игру и времяпрепровождение, или, как более старые богословы, за жизненно-веселый пролог к будущей небесной серьезности, за ребяческую школу будущего его престола, — одним словом, за обратное грядущему. Итак, уже в земных и даже в землистых сердцах живет нечто чуждое им, словно коралловый остров на Гарце, отложенный, быть может, самыми первыми водами творения.
Все равно, как называть этого неземного ангела внутренней жизни, этого ангела смерти всего мирского в человеке, какие признаки его перечислять: довольно, если его будут узнавать в разных его видах и одеяниях. Иногда он показывается людям, глубоко погрязшим в грехе и плоти, как существо, присутствие которого — не действия — нас ужасает [99]; такое чувство мы именуем — страх перед призраками, и народ говорит просто: «Опять бродит», — и часто, чтобы выразить бесконечное, говорят: «то», «оно». Иногда дух являет себя как Бесконечный, и тогда человек молится. Не будь его, мы удовольствовались бы садами земными, но он показывает нам истинный рай в глуби небесной.
Он совлекает пурпур вечерней зари с романтического царства, и мы всматриваемся в мерцающие лунные просторы, мы видим лунные царства и их волшебные игры, ночные цветы, бабочек, соловьев и фей.
Он даровал сначала религию — потом страх перед смертью — греческую Судьбу — суеверие — и прорицания [100] — и жажду любви — и веру в дьявола — и романтический мир, воплощенное царство духов, равно как греческую мифологию, этот обожествленный мир тел.
Что же будет творить божественный инстинкт в гениальной душе и чем он станет в низменной?
Коль скоро все остальные силы гения стоят на более высокой ступени, то и сила божественная должна подниматься надо всеми, словно прозрачный чистый айсберг, вознесшийся над темными земными Альпами. И более того, ведь именно этот яснейший блеск неземного влечения и бросает тот свет, который называют рассудительностью и который проникает всю душу; в мгновенной победе над всем земным, над его предметами и нашим влечением к нему и состоит как раз черта божественного, война до полного уничтожения без перемирий и передышек, — ведь уже моральный дух внутри нас. будучи бесконечным, не согласен признавать великим что-либо помимо себя. Коль скоро все уравнено и сравнено с землей, рассудительности легко не замечать землю.
Теперь легче разрешить спор, требуется ли для поэзии материал или она правит одной лишь формой. Конечно, есть и внешний, механический материал, которым действительность (внешняя и психологическая) окружает нас, а нередко окружает со всех сторон и подавляет, — этот материал безразличен и вообще ничто, пока он не облагорожен поэтической формой; так что все равно, воспевает ли пустая душа Христа или его предателя Иуду.
Но помимо того, что повторяет суетный день, есть ведь и более высокое. Есть внутренний материал — поэзия как бы прирожденная, непроизвольная: форма не облегает его как оболочка, но окружает как оправа. Если так называемый категорический императив (образ формы, как внешний поступок — образ внешнего материала) способен лишь показать Психее, где распутье, но не может запрячь в колесницу ее белого коня [101], чтобы тот шел своим путем, перетягивая черного, и если Психея способна править белым и ухаживать за ним, но не может сотворить его, — точно так же и с Пегасом, который в конце концов и есть тот самый белый конь, только с крыльями. Вот материал, составляющий изначальность гениального, — то, что подражатель ищет только в форме и манере, — равно как порождающий равенство всего гениального; ибо божественное едино, но человеческое многообразно. Якоби считает концентрическим философское глубокомыслие всех времен, — но не проницательность философской мысли [102]; точно так же и поэтические гении, — как звезды в момент восхода, они кажутся удаленными друг от друга, но на высоте, в зените времени, они сближаются, как звезды. Сто свечей в одной комнате дают один, сливающийся свет, хотя и дают сто теней (подражателей). Вот {3} что заставляет охладевать к подражателю, даже ожесточает против него, — не то, что он крадет, заимствуя остроумные, образные, возвышенные мысли своего образца, — ибо нередко он рождает их и сам, — нет, ожесточает воспроизведение всего самого священного в прообразе, воспроизведение, порой невольно родственное пародии, ожесточает искусственное выделывание природного, прирожденного. Если даже прижать к сердцу то сокровище, которое для другого — святая святых, родительского тепла не возместить: поэтому подражатель направляет тепло своего сердца на вещи второстепенные, более близкие, родственные ему, он старается получше их украсить — тем пестрей, чем сам он бесчувственней. Так хладный Гелиос Сибири весь день окружен побочными солнцами (перигелиями) и кольцами.
Есть одна безошибочная примета гениального сердца — все прочие блестящие и вспомогательные силы лишь служат ему — это новое созерцание жизни и мира. Талант изображает части, гений — жизнь в целом, изображает даже в отдельных сентенциях, — в них Шекспир говорит о времени и мире, Гомер и другие греки — о судьбе смертных, Шиллер — о жизни. Такое высшее миросозерцание не ведает перемен, будучи прочным и вечным достоянием сочинителя и человека, — все прочие силы души могут меняться и гибнуть, утомляясь жизнью и временем; даже ребенком гений не может не воспринимать новый для него мир с совершенно иным чувством, чем другие, он не может не ткать по-новому кружева будущих цветов, — не будь отличия раннего и ребяческого, не было бы и отличия позднего и взрослого. Одна мелодия проходит через все строфы жизненной песни. Лишь внешнюю форму поэт созидает мгновенным напряжением всего своего существа, но дух и материал он носит в себе полжизни, и в нем или всякая мысль поэзия, или вообще ни одна.