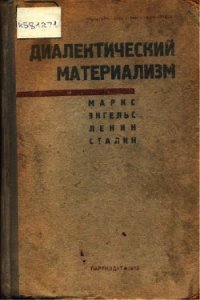Диалектическая логика. Очерки истории и теории - Ильенков Эвальд Васильевич (бесплатные книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
В этих рассуждениях легко узнать гордый принцип Фихте. Именно деятельность есть то абсолютное и безусловное, что никогда не может и не должно закончиться созданием раз и навсегда откристаллизовавшейся системы; то абсолютно всеобщее, в котором, как в бесконечном пространстве, будут возникать всё новые и новые различия, дифференциации, особенности и частности, соответственно сливаться (отождествляться) прежде установленные, и так без конца. Такая форма критицизма, по Шеллингу, включает в себя догматизм как свой собственный момент, ибо утверждает тезис, согласно которому всё здание духовной культуры человечества должно впредь строиться на ясно и категорически установленном фундаменте: на понимании того, что единственным субъектом всех возможных предикатов является Я – бесконечное творческое начало, живущее в каждом человеческом существе и свободно полагающее как самоё себя, так и весь тот мир объектов, которые оно видит, созерцает и мыслит; что ни один уже достигнутый результат не имеет для Я силы абсолютного, «объективного» авторитета, силы догмы.
И если найдётся противоположная система, рассматривающая человека как пассивную точку приложения заранее данных, внешне объективных сил, как пылинку в вихрях мировых стихий или как игрушку в руках бога и его представителей на земле, то эту догматическую систему, хотя бы она и была формально строго доказана и внутри себя непротиворечива, сторонник подлинного критицизма обязан опровергать вплоть до окончательной победы.
Шеллинг, как и Фихте, стоит за новый, критически «просветлённый» догматизм: «Догматизм – таков результат всего нашего исследования – теоретически неопровержим, потому что он сам покидает теоретическую область, завершая свою систему практически. Таким образом, он опровержим практически, тем, что мы в себе реализуем абсолютно противоположную ему систему» [72].
Практическая деятельность – вот то «третье», на чём, как на общей почве, сходятся все противоречащие друг другу системы. Здесь, а не в отвлечениях чистого разума и разгорается подлинный бой, который может и должен кончиться победой. Вот где доказательство того, что одна партия, неукоснительно проводящая свой принцип, защищает не только свой, эгоистически частный интерес, но интерес, совпадающий со всеобщей тенденцией мироздания, т.е. с абсолютной и безусловной объективностью.
«В области Абсолютного (постигаемого чисто теоретически. – Э.И.) ни критицизм не мог следовать за догматизмом, ни этот не мог следовать за тем, ибо в ней для обоих возможно было лишь абсолютное утверждение – утверждение, совершенно игнорировавшееся противоположной системой, ничего не решавшее для системы противоречащей. Лишь теперь, после того как оба они встретились друг с другом, ни один из них не может игнорировать другого, и если раньше (т.е. в чисто теоретически-логической сфере. – Э.И.) речь шла о спокойном, без всякого сопротивления добытом владении, то теперь уже владение их должно быть завоёвано победой» [73].
Вот тот пункт, который отделил Фихте и Шеллинга от Канта: духовная культура человечества не может вечно находиться в положении буриданова осла между двумя одинаково логичными системами представлений о самых важных в жизни вещах. Человечество вынуждено практически действовать, жить, а действовать в согласии сразу с двумя противоположными системами рекомендаций невозможно. Приходится выбирать одну и уж неукоснительно действовать в духе её принципов.
Правда, и сам Кант в позднейших сочинениях доказывал, что доводы практического разума всё-таки должны склонить чашу весов в пользу одной системы против другой, хотя чисто теоретически эти системы и абсолютно равноправны. Но у Канта такой мотив проступает лишь в качестве одной из тенденций его мышления, а Фихте и Шеллинг превращают его в исходную точку всех своих размышлений. Отсюда и лозунг победы также и в теоретической сфере. Одна из сталкивающихся логических концепций всё же должна победить другую, ей противоположную, для чего она должна быть усилена доводами уже не чисто логического, тем более чисто схоластического свойства, а вооружена также и практическими (морально-эстетическими) преимуществами. Тогда ей обеспечена победа, а не просто право и возможность вести вечный академический спор.
Как и Фихте, Шеллинг видит главную проблему теоретической системы в синтетических суждениях и в их объединении: «Именно эта загадка гнетёт критического философа. Основной вопрос его гласит: как возможны синтетические, а не как возможны аналитические суждения». «Самое понятное для него – как мы всё определяем лишь согласно закону тождества, самое загадочное – как можем мы что-нибудь определять, выходя за пределы этого закона» [74].
Сформулировано остро. В самом деле, любой элементарный акт синтеза определений в суждении – хотя бы А есть Б – уже требует выхода за пределы закона тождества, т.е. нарушения границ, установленных запретом противоречия в определениях. Ведь чем бы ни являлось присоединяемое Б, оно, во всяком случае, не есть А, есть не‑А. Налицо логическое выражение того факта, что всякое новое знание разрушает строго узаконенные границы старого знания, опровергает, ревизует его.
Поэтому всякий догматизм, упрямо настаивающий на уже достигнутом, завоёванном знании, всегда и отвергает с порога любое новое знание на том единственном основании, что оно противоречит старому. А оно действительно формально противоречит, ибо аналитически не содержится там и не может быть «извлечено» из него никакими логическими ухищрениями. Оно должно быть присоединено к старому знанию, несмотря на то, что формально ему противоречит.
Значит, подлинный синтез осуществляется не чисто теоретической способностью, строго повинующейся логическим правилам, а совсем иной способностью, которая не связана строгими ограничениями логических основоположений и даже вправе переступать их там, где испытывает в этом властную потребность. «Система знания есть необходимо или простой фокус, игра мысли... или она должна обрести реальность, не с помощью теоретической, но с помощью практической, не с помощью познающей, но с помощью продуктивной, реализующей способности, не через знание, а через действие...» [75]
У Канта такая продуктивная способность называется силой воображения (Einbildungskraft). Следуя Канту, Шеллинг и погружается в её анализ, который выводит его на несколько иной путь, чем путь Фихте, на рельсы объективного идеализма. Последний не только мирится с тезисом о реальном существовании внешнего мира, но и строит теорию его познания, хотя у самого Шеллинга эта теория и оказывается чем-то всецело отличным от логики, а скорее, клонится к образу эстетики, к теории художественного эстетического постижения тайн мироздания. Для людей же науки Шеллинг оставляет в качестве инструмента для работы всё ту же старинную логику, которую он сам, вслед за Фихте, объявил совершенно недостаточным орудием познания и оправдал лишь как канон внешней систематизации и классификации материала, полученного совершенно иными, нелогичными и даже алогичными способами.
Если Фихте задал классический образец критики Канта и его логики справа, с позиций последовательно проведённого субъективного идеализма, то в реформаторских устремлениях молодого Шеллинга явственно начинает просвечивать другой мотив, по тенденции своей ведущий к материализму.
В кругах, где вращался молодой Шеллинг и где созревала его мысль, господствовали несколько иные настроения, нежели те, которые индуцировали философию Фихте. Все помыслы Фихте сосредоточивались на той социально-психической революции, которую возбудили в умах события 1789-1793 годов. С событиями и проблемами тех лет и связан взлёт его мысли, с падением революционной волны и его философия опустила крылья, а нового источника вдохновения он уже не нашёл. Для Шеллинга же рождённый революцией пафос был лишь стадией, и на ней он выступал как единомышленник и даже как ученик Фихте. Однако, подобно тому, как силы грубой реальности заставили считаться с собой самых рьяных якобинцев, так и Шеллингу стало ясно, что настаивать на одной лишь бесконечной творческой мощи Я, на силе её морального пафоса перед лицом упрямого внешнего мира – значит биться лбом о стену непонимания, что и случилось в конце концов с Фихте.