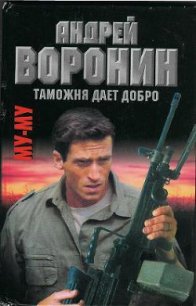Бунтующий человек - Стефанов Юрий Николаевич (книги без регистрации .TXT) 📗
ОТКАЗ ОТ СПАСЕНИЯ
Если романтический бунтарь воспевает индивида и зло, это не означает, что он на стороне людей. Нет, он только за себя самого. Дендизм, каков бы он ни был, всегда есть дендизм по отношению к Богу. Индивид в качестве творения может противопоставить себя только творцу. Он нуждается в Боге, перед которым продолжает мрачно кокетничать. Арман Хуг [83] прав утверждая, что, несмотря на ницшеанскую атмосферу этих произведений, Бог там еще не умер. Само проклятие, которого требуют с таким неистовством, — это только удачный ход в игре ее Всевышним. Достоевский делает еще один шаг вперед в исследовании мятежного духа. Иван Карамазов становится на защиту людей, делая упор на их невиновности. Он утверждает, что смертный приговор, тяготеющий над ними, несправедлив. По крайней мере в первом своем порыве далекий от того, чтобы оправдывать зло, он отстаивает справедливость, которую ставит выше божества. Иван Карамазов не отрицает существование Бога как таковое. Он отвергает Бога во имя нравственной ценности. Взбунтовавшийся романтик стремится говорить с Господом как равный с равным. В таком случае на зло отвечают злом, на жестокость — гордыней. С точки зрения Виньи, например, лучше всего было бы на молчание отвечать молчанием Нет сомнений, речь идет о том, чтобы возвыситься до Бога, что уже является богохульством. Но здесь нет умысла оспорить могущество или место божества. Подобное богохульство подобострастно, поскольку любое богохульство в конечном счете есть своего рода приобщение к священному.
В противоположность этому Иван Карамазов меняет тон. Он в свою очередь судит Бога, и судит свысока. Если зло необходимо для божественного творения, тогда это творение неприемлемо. Иван полагается уже не на таинственного Бога, а на принцип более высокий — принцип справедливости. Он приступает к важнейшему делу, осуществляемому бунтом, — к замене царства благодати на царство справедливости. Вместе с тем он начинает наступление против христианства. Романтики-бунтари порывали с Богом как принципом ненависти. Иван открыто отказывается от тайны и, как следствие этого, от Бога как принципа любви. Только любовь может оправдать в наших глазах несправедливость, совершенную по отношению к Марфе [84] к рабочим, которые трудятся по десять часов в день, и, если идти дальше, примирить нас с не имеющей оправданий смертью детей "Если страдания детей, — говорит Иван, — пошли на дополнение той суммы страданий, которая необходима была для докупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены". Иван отвергает ту глубокую зависимость между детиной и страданием, которую установило христианство. Вот крик, вырвавшийся из глубин Ивановой души, крик, разверзший головокружительные пропасти на пути бунта — хотя бы даже: "Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав". А это означает: хотя бы даже Бог существовал, хотя бы даже таинство скрывало истину, хотя бы даже старец Зосима был прав, Иван не согласится, чтобы эта истина была оплачена злом, страданием и смертью невинного. Иван воплощает в себе отказ от спасения. Вера ведет к бессмертию. Но вера предполагает принятие тайны я зла, смирение перед несправедливостью. Тот, кому страдания детей мешают открыть сердце для веры, не примет жизни вечной. На таких условиях Иван отверг бы ее, даже если бы она существовала. Он отказывается от подобной сделки. Он принял бы только ничем не обусловленную благодать и потому сам выдвигает свои условия. Бунт хочет "все" или не хочет "ничего". "От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка". Иван не утверждает, что истины в мире нет. Он говорит: если истина существует, она неприемлема. Почему? Потому что она несправедлива. Таким образом, здесь впервые начинается борьба справедливости с истиной, и борьба эта будет длиться без передышки. Иван Карамазов, одиночка, а следовательно, моралист, довольствуется своего рода метафизическим донкихотством. Но не пройдет и трех десятилетий, и широкий политический заговор поставит себе целью превратить справедливость в истину.
Иван к тому же воплощает в себе отказ от спасения в одиночку. Он солидаризируется с проклятыми и ради них отказывается от неба. Если бы он верил в Бога, он мог бы быть спасен, но тогда другие оставались бы проклятыми. Страдания продолжались бы. А для того, кто испытывает подлинное сострадание, собственное спасение невозможно. Иван и дальше будет доказывать Богу его неправоту, отвергая веру и как несправедливость, и как привилегию. Еще один шаг, и от формулы "все или ничего" мы перейдем к формуле "все или никто".
Этой крайней решимости и соответствующей позиции было бы достаточно для романтиков. Но Иван, [85] хотя он тоже делает Уступку дендизму, реально живет этими проблемами, разрываясь Между "да" и "нет". Для него настало время пожинать плоды Если он отказывается от бессмертия, что ему остается? Жизнь самая примитивная. Смысл жизни уничтожен, но остается еще сама жизнь. "Я живу, — говорит Иван, — вопреки логике" И добавляет: "…не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогое женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования а я все-таки захочу жить". Следовательно, Иван будет жить и любить, "сам не зная почему". Но жить — это значит также действовать. Во имя чего? Если нет жизни вечной, то нет ни награды, ни кары, ни добра, ни зла. "Я думаю, нет добродетели без бессмертия души". И еще: "Я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается". Но если нет добродетели, то нет уже и закона: "все дозволено".
С этого "все дозволено" начинается подлинная история современного нигилизма. Романтический бунт не заходил так далеко. Он в общем ограничивался утверждением, что не все дозволено, но что по своей дерзости он позволяет себе то, что запрещено. С Карамазовыми, наоборот, логика возмущения обратит бунт против него самого и ввергнет в безысходное противоречие. Существенное различие состоит в том, что романтики позволяли себе переступать запреты ради самолюбования, а Иван вынужден творить зло в силу логической последовательности. Он не разрешит себе быть добрым. Нигилизм — это не только отчаяние и отрицание, это прежде всего воля к отрицанию и отчаянию. Человек, который столь яростно вставал на защиту невинности, которого приводили в дрожь муки ребенка, который хотел видеть "собственными глазами" лань, уснувшую рядом со львом, и жертву, обнявшую убийцу, — тот же самый человек, как только он отказывается от божественного порядка и пытается найти собственный закон, сразу же признает законность убийства. Иван восстает против Бога-убийцы; но, замыслив свой бунт, он выводит отсюда закон убийства. Если все дозволено, он может убить своего отца или по крайней мере допустить, чтобы его отец был убит. Долгие раздумья о нашем положении приговоренных к смерти ведут только к оправданию преступления Иван одновременно и ненавидит смертную казнь (рассказывая о ней, он желчно иронизирует: "И оттяпали-таки ему по-братски голову за то, что и на него сошла благодать"), и в принципе допускает преступление. Всяческая снисходительность к убийце, никакой — к палачу. Это противоречие, в котором вполне уютно жилось Саду, душит Ивана Карамазова.
Он, по видимости, рассуждает так, как если бы бессмертия не существовало, а ведь ограничился только заявлением, что отказался бы от бессмертия, даже если бы оно существовало. Протестуя против зла и смерти, он предпочитает смело утверждать, что добродетель не существует точно так же, как бессмертие, и допускает убийство отца. Он ясно осознает свою дилемму быть добродетельным и алогичным или же быть логичным и преступным. Его двойник — черт — прав, когда нашептывает ему "Ты собираешься сделать доброе дело и, однако, в добродетель ты не веришь, вот что тебя раздражает и мучает". Вопрос, наконец заданный Иваном самому себе и означающий подлинный успех, достигнутый бунтарским духом благодаря Достоевскому, — это единственный вопрос, который нас здесь интересует — можно ли жить и сохранять себя в состоянии бунта?
83
Les petits romantiques (Cahiers du Sud)
84
Несправедливость, совершенная по отношению к Марфе — вероятно имеется в виду известное евангельское противопоставление Марфы и Марии, где Иисус укоряет Марфу: "Ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее" (Лк: 10, 41–42). Традиционно этот упрек интерпретировался как превосходство созерцательной жизни над активной, веры над делами.
85
Стоит ли напоминать, что Иван это некоторым образом сам Достоевский? Устами этого персонажа он говорит естественней, чем устами Алеши