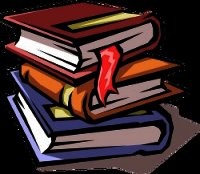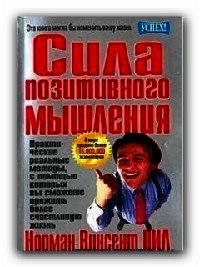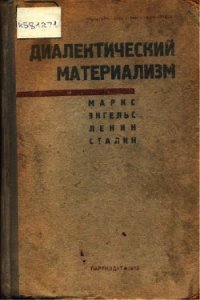Ламетри - Богуславский Вениамин Моисеевич (читать книги без TXT) 📗
Он провозгласил свои смелые идеи, и они привлекли всеобщий интерес и принесли ему европейскую известность, но при его жизни было еще мало людей, готовых эти идеи принять. Он «своей смелостью, — писал Плеханов, — пугал даже самых смелых» (25, 2, 337). Даже «те, кто восхищался его идеями или разделял их, не имели мужества публично заявить об этом» (79, 11–12). Как писал о себе сам Ламетри, он оказался в положении моряка, пустившегося в плавание тогда, когда не наступило еще благоприятное для этого плавания время года. Ему пришлось вести авангардные бои за материалистическое мировоззрение. Утверждение Тиссерана, что работы Ламетри — «первое во Франции откровенное выражение последовательного, воинствующего материализма» (там же, 15), неточно лишь в одном: материализм этого философа (как и всех материалистов до Маркса) не был, конечно, последовательным. В остальном это утверждение Тиссерана совершенно справедливо. В устах Ламетри, смелого зачинателя французского материализма и атеизма XVIII в., призыв писать для грядущих поколений — не отвлеченность, не гипербола, а отражение реальных условий его жизни.
Остро чувствуя свое идейное одиночество, он реагировал на него весьма своеобразно. Как литератор, он любил мистификации, избирая неожиданный образ действий, чтобы сбить с толку своих врагов, одурачить их. Хорошо знавший его Мопертюи писал: Ламетри «разыгрывает публику способом, совершенно противоположным тому способу, каким ее обычно разыгрывают» (64, 3, 346). Многое в работах философа рассчитано на то, чтобы нанести пощечину мнениям, царившим в обществе. Он намеренно так формулирует свои мысли, чтобы шокировать «благонамеренного» читателя, чтобы тот почувствовал себя «оскорбленным в своих лучших чувствах». Вызывающий характер носят не только книги Ламетри, но и многие его поступки. Их напускная развязность специально рассчитана на тех, для кого материалист, атеист— это, конечно, разнузданный прожигатель жизни. Правда, достаточно вспомнить бескомпромиссность, непримиримость, с которой он бросает в лицо врагам все, что думает, намеренно выводя их из себя и тем самым идя навстречу опасности, угрожавшей его свободе и жизни, чтобы понять: образ весельчака, потворствующего всем своим страстям и прихотям, — лишь личина. Но именно таким считали его современники. Приписываемая ему моральная распущенность была в их глазах естественным следствием его философских взглядов.
Лишь люди, с которыми Ламетри был откровенен, в том числе Мопертюи и Вольтер, знали, насколько несправедливо было общее мнение о нем. «Этот весельчак, слывущий человеком, который над всем смеется, порой плачет, как ребенок, от того, что находится здесь. Он заклинает меня побудить Ришелье, чтобы тот добился его помилования. Поистине ни о чем не следует судить по внешнему виду. Ламетри в своих произведениях превозносит высшее блаженство, доставляемое ему пребыванием подле великого короля, который время от времени читает ему свои стихи. А втайне он плачет вместе со мной, он пешком готов вернуться на Родину» (82, 320) — так писал Вольтер, менее всего склонный приукрашивать Ламетри, который, оказавшись при дворе Фридриха, стал его любимцем. Этой чести до того был удостоен лишь Вольтер. Последний как придворный сразу невзлюбил того, кто занял его место в сердце короля. Но (как сообщает Вольтер в письмах своей племяннице), войдя в доверие к Ламетри и внушив ему, что он его друг, Вольтер услышал от автора «Человека-машины» весть, лишившую его сна и покоя: Фридрих доверительно сообщил Ламетри, что Вольтер ему понадобится самое большее еще год: когда апельсин выжимают, цинично прибавил «король-философ», кожуру выбрасывают (см. 10, 426).
Как метко сказал в своем интересном введении к работе Ламетри А. Вартанян, «за веселым, дерзким, чувственным, безответственным обликом, который Ламетри обращал к миру, подобно маске Арлекина, скрывались побуждения и чувства совсем иного рода» (80, 9). Весельчак, прожигатель жизни, счастливчик — это была лишь поза человека, глубоко страдающего от идейного одиночества, от тоски по родине, от горького сознания, что участь, уготованная королем Вольтеру, рано или поздно не минует и его, Ламетри. Вольтер это знал. Но после известия об «апельсиновой кожуре» его антипатия к Ламетри усилилась, и он не только не опровергал дурной славы Ламетри, но и всячески способствовал ее распространению. Конечно, особенно возмущала дерзость его мысли, не останавливавшейся перед самыми крайними заключениями. Ведь, как верно заметил французский маркист М. Тиссеран, даже «Дидро ни в одном из своих опубликованных произведений не сделал из своих принципов столь бескомпромиссных и смелых выводов», на какие отважился в своих книгах задолго до того Ламетри (79, 24).
Так получилось, что представление о нем как о фигуре — и по своим взглядам, и по моральному облику — одиозной стало среди современников настолько общепринятым, что Дидро и Гольбах отмежевались от него и осудили его как человека, компрометирующего «философов». Навиль пишет, что эта их позиция вызвана была тем, что Ламетри в известной мере присоединился к взглядам либертенов — в том смысле, в каком этот термин нередко употребляли в эпоху регентства, т. е. тех, кто не только отвергал религиозную мораль, но призывал безудержно предаваться чувственным наслаждениям. По словам Мози, основной постулат «циничной морали Ламетри» гласит: «человек-машина может искать счастья лишь в наслаждениях тела». «Ламетри развивает этот постулат в…эготистском бреду. Он отвергает любое противоречащее ему правило, не обращая внимания ни на общество, ни на законы» (65, 251; 249).
У. и Э. Дюран (1965) тоже утверждают, что Ламетри «провозгласил высшей добродетелью себялюбие, а высшим благом — чувственное наслаждение» (54, 621).
Уже из сказанного выше видно, насколько односторонней является такая интерпретация этических принципов философа. Даже травивший Ламетри современный ему журнал «Bibliotheque raisonnee» положительно отозвался о том высказывании философа в «Человеке-машине», где, сопоставив чувственные и духовные наслаждения, философ «безоговорочно отдает предпочтение удовольствиям духа» (38, 358).
Отрицательное отношение Дидро и Гольбаха к Ламетри, как полагает Навиль, связано также с вопросом, как поступить, если возникает острый конфликт между принятой в обществе и государстве моралью и запросами личности. Дидро и Гольбах, по словам Навиля, видят решение этого вопроса в преобразовании общества и государства, в установлении морали, согласной с разумом; Ламетри же оставляет данный вопрос без ответа: «Политический вопрос его не интересует» (69, 366). Он не указывает средства, которое помешало бы ничем не ограниченной эгоистической чувственности, губительной для общества. Навиль разделяет мнение Р. Дене, который находит у Ламетри лишь «чисто биологическую концепцию индивида» (49, 108). «Антиномии материалистической физики и утилитаристской морали, — полагает Навиль, — остаются у Ламетри неразрешенными. У Дидро и Гольбаха они упраздняются посредством поисков социального равновесия» (69, 366).
Представляется, что Навиль не прав здесь и по отношению к Ламетри, и по отношению к Дидро и Гольбаху. Ныне, пишет Ламетри, царит известное право, но «это право не является ни правом разума, ни правом справедливости; это — право силы, часто уничтожающее несчастного, на стороне которого разум и справедливость». Законы, следовательно, необходимо исправить. «Кто же будет их исправлять, реформировать… если не философия?» (2, 489). Это относится и к морали. Философия указывает, каким изменениям подлежат и мораль и законы. «Она имеет определенную точку зрения, чтобы здраво судить о том, что честно или бесчестно, справедливо или несправедливо, порочно или добродетельно; она раскрывает заблуждение и несправедливость законов…» При этом она судит о них, руководствуясь тем, «что справедливы и правомерны те из них, которые благоприятны обществу; несправедливы те, которые нарушают его интересы» (там же, 488; 490). А нравственным мораль считает не то, что объявляет таковым каприз власть имущих и предрассудки теологов, а то, что идет на благо обществу. «Все, чего я хочу, — это чтобы держащие кормило правления были немножко философами», лишь тогда они смогут «почувствовать разницу, существующую между их капризами, тиранией, законами, религией и истиной, беспристрастием и справедливостью…» (там же, 493).