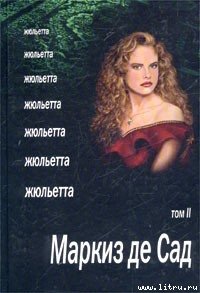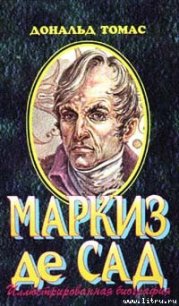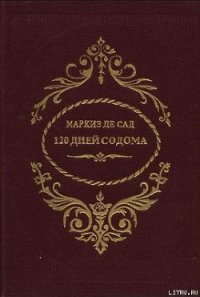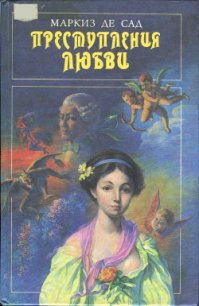Маркиз де Сад и XX век (сборник) - Лели Жильбер (читать бесплатно книги без сокращений .txt) 📗
Из этого противопоставления отчасти проистекает двойная система ценностей. Этот двойственный ее характер не был признан, и ценности беспорядка воспринимались в целом как полезные. Однако ценности беспорядка, хотя они до сих пор и не признаны (завуалированы), являются единственно божественными, сакральными неуверенными, ибо всякая полезная ценность в огромной степени подчинена им. В действительности, они не были признаны в чистом виде: то, что люди считали божественным, сакральным или высшим, всегда опосредованно обретало утилитарность: боги были гарантами поддержания порядка, жертвоприношения способствовали плодородию возделываемых полей, а короли управляли армиями. Только абсолютные беспорядок и одиночество могли лежать в основе высшей ценности, которая приобрела бы блеск солнца, но, как и этот блеск, стала бы нестерпимой. Представьте себе ребенка, ни от кого не зависящего, обладающего недюжинной силой и интеллектом, которые он употреблял бы для удовлетворения своих капризов, видя в других людях что-то вроде игрушек. Однако человек, закабаленный работой и накоплением ресурсов во имя поддержания жизни, способен прийти к высшей свободе лишь посредством беспорядка, может быть, и не столь же безобидного, но, по крайней мере, столь же по-детски нелепого.
Любопытно рассмотреть эти истины сквозь призму творений Сада, написанных внешне вполне логичным, но глубоко беспорядочным языком. Как будто принцип беспорядка не мог быть сформулирован в соответствии с правилом, как будто это была совершенно непосильная задача. Но если в этих пространных беспорядочных рассуждениях можно усмотреть попытку искупления истины, ослепившей Сада, то следует отметить, что, отказываясь от принципа беспорядка, анализ, проясняющий сделанное Садом открытие, все более и более отдаляется и от насилия!
Он отдаляется от насилия по собственной воле.
Дело в том, что, встав на путь [создания нового] языка и наделив насилие своим голосом, Сад совершил не только беспримерный [по своей смелости] поступок. Одновременно он разрешил проблему, которую ставит несовершенство нашего сознания. То, о чем умалчивает логический дискурс, и является именно тем, что ускользает от сознания. (В самом деле, если язык дискурсивен, сознание ничем не отличается от языка…). Однако обратим внимание на такой факт: насилие может занять в сознании подобающее ему место только при одном условии — если оно достигнет высшего напряжения. В противном случае оно осталось бы чем-то второстепенным и всего лишь терпимым в этом утилитарном мире… если, конечно, оно молчало бы и хранило на своем лице маску. Итак, понадобился не только один из самых порочных умов, когда-либо являвшихся на свет, понадобилось вдобавок нескончаемое заточение, удвоившее его ярость. После четырех лет, проведенных в тюремной камере, сам Сад очень точно описал последствия сурового обращения, которому он подвергся: «…вы вообразили, готов побиться об заклад, что поступили превосходно, принудив меня к ужасному воздержанию от плотского греха. [10]Что ж, вы ошиблись, вы породили во мне призраков, которые я должен буду воплотить. Это уже начиналось и непременно возобновится с новой силой. Когда котелок с водой слишком долго кипятят, вы знаете, что вода обязательно перехлестнет через край» [11]. Или дальше: «Когда имеют дело с необузданной лошадью, на ней скачут по вспаханным полям, но ее никогда не запирают в конюшне». Сад не мог знать тогда, что пробудет в заточении еще семь лет: он написал «Жюстину» (по крайней мере ее первую редакцию) и «120 дней» в конце своей нескончаемой пытки.
Вряд ли можно было представить себе появление столь радикального протеста, если бы на Сада не повлияла совокупность всех этих обстоятельств. В иной форме его просто невозможно себе вообразить. Будь он смягчен сдержанностью, имей он гуманистическую окраску, язык Сада породил бы двусмысленность: насилие не было бы предложено сознанию в качестве суверенной ценности, оно по-прежнему оставалось бы чем-то скрытым. Только в одной случае оно могло выйти из своего подчиненного состояния (или молчания) и стать абсолютно главенствующим. Именно это делает творчество Сада уникальным: оно «непревосходимо». Морис Бланшо с полным основанием мог написать о «Жюстине» и «Жюльетте»: «Можно утверждать, что ни в одной из литератур любых эпох не появлялось произведения столь же скандального, которое так же глубоко задевало бы чувства и мысли людей… Нам повезло: мы познакомились с творением, превзойти которое не отважился никто другой из писателей ни в одну из эпох; итак, в этом столь относительном мире литературы перед нами в некотором роде подлинный абсолют…» [12]. Дело в том, что в противоположность правилу, которое всегда является подчиненным, утилитарным, или второстепенному беспорядку, склоняющемуся перед правилом, беспорядок, наделенный полной свободой, может быть суверенен лишь абсолютно.
Однако абсолютно суверенный ум предлагает сознанию высшую ценность насилия; сам же он не может оставаться сознательным, поддерживать в себе прозрачность и соблюдать строгие ограничения, налагаемые сознанием. Чаще всего Сад проявлял исключительную ясность ума, его рассуждения не лишены ни силы, ни живости. Но эта сила превосходит конечную размеренность (enchaînement). Вторжение беспорядка в область сознания, которому он не противится, могло, как я уже сказал, быть только беспорядочным. Насилие у Сада было сознательным, но лишь в той мере, в какой само сознание поддавалось искажению путем насилия. Насилие, вступившее в сделку с сознанием, само отчасти утратило безжалостное презрение ко всем остальным людям, а главное — сознание, в котором отражалось насилие Сада, утратило свойственное сознанию стремление к тому, чтобы сохранялась возможность жизни.
Таким образом, Сад не мог предложить сумеречному сознанию одержимых насилием людей признать суверенность насилия, ибо это способен сделать исключительно средний человек, наделенный ясным и отчетливым сознанием. Лишь в той мере, в какой беспорядок стремится к господству над сознанием, управляемым рассудком, насилие может попытаться занять место (непременно наилучшее) в системах ценностей, каковыми руководствуется цивилизованное человечество. Впрочем, достаточно поставить проблему, чтобы заметить ее сложность; своей целью она имеет познание человеком того, чем является он сам, т. е. самосознание.
Несомненно, самосознание — основная цель человека, проявляющаяся в устремлениях всего сущего, но насилие противопоставляет ему замкнутую сферу, и представляется, что осознание этой сферы недоступно тому, кому недостает насилия (оно недоступно, в частности, тогда, когда насилие искажает сознание и приводит его в беспорядок). Другими словами, поскольку человек — продукт двух противоположных начал, осознание того, чем он является, для него невозможно. Он непременно теряет в одной области то, что приобретает в другой. Будучи в высшей степени жестокими, мы склонны утрачивать сознание, и чем большим сознанием мы наделены, тем в большей степени мы подчиняем суверенность насилия утилитарным целям сознания.
Итак, мы можем избрать лишь один из двух подходов. И если исходить из хода мысли Сада, за которым можно следовать лишь в направлении беспорядка, такой подход под силу только сознанию обычного человека. Он уже задан жизнью и творчеством самого Сада, обладающего характером, весьма далеким от идеала его героев. Он не был тем одиноким человеком, которого вывел в своих произведениях; его жизнь, обуреваемая нечеловеческими страстями, тем не менее, являет нам и вполне человеческие черты. Он любил, имел друзей, часто вел себя вопреки духу одиночества. Тяготел к проявлениям высшего беспорядка, но при этом поступал так, как если бы был нечестивым рыцарем, ищущим свой Грааль. Кажется, искал он [его] страстно, и Сад имеет в виду самого себя, когда пишет по поводу «некоторых голов»: «Все беспокойства, все хлопоты, все заботы, которые сопутствуют жизни, отнюдь не превращаясь для них в мучения, напротив, доставляют им радость; это что-то вроде строгостей любовницы, которую ты обожаешь, — ты был бы огорчен, если бы лишился возможности пострадать из-за нее» [13]. Но Сад мог страдать исключительно от последствий самых тяжких пороков — к примеру, от тюремного заключения, — он всегда лишь приближался к одиночеству беспорядка.