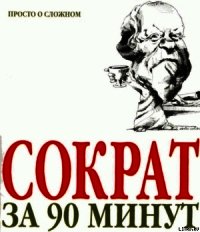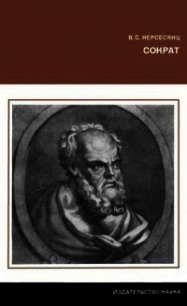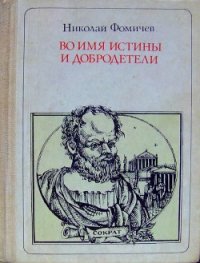Сократ и Мы - Толстых Валентин Иванович (бесплатная регистрация книга .txt) 📗
Говорят, что первая ступень мудрости – распознание лжи, вторая познание истины. Галилей прошел обе ступени. Семнадцать лет он преподавал систему Птолемея, сомневаясь в ее истинности. Сомнения нуждались в подтверждении фактами. И телескоп, направленный Галилеем на звездное небо, принес необходимые факты. Теперь можно было открыто заявить всему миру о правоте Коперника и "того сожженного", Джордано Бруно. Считая истину, силу фактов и доводы разума превыше всего, Галилей, однако, "забыл", в какое время он живет.
Он забыл о священном писании, где грех и знание нерасторжимы уже изначально: именно жажда знаний заставила человека вкусить от древа добра и зла. К тому же, с точки зрения отцов церкви, налицо было преступление против норм мышления, раз навсегда данных, узаконенных, овеянных авторитетом "божественного" Аристотеля.
В тщательно разработанной святой церковью шкале грехов строго различались грехи "простительные" и грехи "непростительные". К первым относились прегрешения "плоти", ко вторым – грехи "духа". Уже само это разделение показывает, что ортодоксия церкви не была так формалистична, как принято считать. Снисходительное отношение к плотским грехам оправдывало не только нарушение аскетической морали самими отцами церкви ("Никто из смертных не велик настолько, чтобы его нельзя было помянуть в молитве" [Здесь и далее пьеса Б. Брехта "Жизнь Галилея" цитируется по: Брехт Б. Театр. В 5-ти т. М., 1963, т. 2.], – иезуитски замечает кардинал-инквизитор в пьесе Брехта), а прежде всего – и в этом основное – позволяло играть на человеческих слабостях в целях обуздания более страшного греха – "богохульства", когда прерывается связь с первоначалом всего, то есть с богом.
Галилей, подобно Джордано Бруно, совершил "непростительный" грех. Правда, в отличие от Галилея, "вина" Бруно была отягощена другим смертным грехом – дерзостью (praesumptio), когда человек надеется на получение прощения за совершенный "непростительный" грех без покаяния (sine poenitentia) и тем самым желает обрести право грешить еще необузданнее. Нравственная безупречность и неуязвимость Ноланца (как именует себя в своих трудах Бруно по названию городка Нола, в котором он родился), последовательно выступавшего против распущенности аристократии и искусства "вульгарных страстей", ратовавшего за сдержанность в склонностях и умеренность в чувственности, не была даже замечена инквизицией. Здесь святым отцам нельзя отказать в принципиальности: "нравственность" или "безнравственность" ученого определялась его отношением к постулатам церкви.
Перед нами два этических кодекса – церковный и научный, которые расходятся буквально во всем. Разрыв между наукой и религией отчетливо выразился в самом понимании нравственной ответственности ученого. Церковь видела эту ответственность в том, чтобы скрыть истину, ибо она "может завести куда угодно", как откровенно заявляет у Брехта придворный философ. И Брехт дает понять, что дело не в церкви как таковой. За фасадом церковных установлений скрываются интересы определенных социальных, политических сил, олицетворением которых является церковь. Наука, напротив, понимала эту ответственность как решительный отказ от обветшавших представлений. Для ученого самой "упрямой вещью" были факты, опыт, для церковников – цитаты, софистические выкрутасы, авторитет "божественного" Аристотеля (кстати, мало повинного в том, что церковь обкорнала его учение, уничтожив, по словам В. И. Ленина, в нем все "живое" и сохранив "мертвое"). Искренние и наивные попытки Галилея "убедить" посредством доводов разума разбились о непроницаемый щит схоластики, догматизма, невежества. Иначе и быть не могло.
В стихотворной форме это хорошо выразил Ф. Шиллер:
Сколько у истины новых врагов! Душа замирает,
К свету теснится – увы! – стая незрячая сов.
На первый взгляд может показаться, что противники Галилея в пьесе монахи, "академическая" церковная челядь, весь святейший Олимп, включая папу, – несколько шаржированы. Но современники той эпохи рисовали, пожалуй, более беспощадные портреты отцов церкви.
Вспомним, например, "Тайну Пегаса, с приложением Килленского осла" Джордано Бруно.
Ноланец называет вещи своими именами в отличие от схоластики, которая прятала их прямой смысл в терминологическом тумане, прикрывала самые отвратительные явления и пороки благообразными словами (как благообразно звучит, скажем, "обскурантизм", "волюнтаризм" и как грубо, прямолинейно "невежество", "произвол"). Бруно метко характеризует невежество словом "ослиность", считая ее первейшим признаком монашеской ученой братии.
Какие только не бывают на свете ослы – скотский, человеческий, небесный, умственный, гражданский, этический, экономический, математический, логический и т. д., несть им числа.
Типология ослов, хорошо знакомая неукротимому еретику по собственному опыту, разработана им с тщательностью и конкретностью необыкновенной.
У схоластов, иронизирует Ноланец, все "как у людей". Например, академия, над входом в которую написано: "Не переходите за черту!"
В сей ученой обители кропотливо и неустанно разрабатываются сложнейшие проблемы бытия.
Какие же? Одни расшифровывают священное писание, пытаясь установить, что именно имел в виду тот или иной святой, сказав то-то и то-то. Вторые заняты восстановлением устаревших слов, правильной и неправильной орфографии.
Третьи ведут бесконечный спор о том, что раньше: море или источник, существительное или глагол и т. д. и т. п. При этом все они полны сознанием абсолютной необходимости подобной деятельности, несомненности привычных понятий и взглядов. Всякое посягательство на их незыблемость вызывает протест и возмущение.
"Истина может завести куда угодно" – Брехт очень емко выразил суть методологии святой церкви.
Галилей, как и всякий человек, не волен был выбирать себе противников. "Ослы", выпавшие на его долю, являлись господствующей силой в обществе. Поэтому поражение Галилея в его конфликте со святой церковью было предопределено. Методология схоластов и догматиков становится непробиваемой, как только ее принимают всерьез. Ортодоксальность делает "ослиность" неуязвимой. Галилей убедился в этом, принимая у себя придворных ученых флорентийского двора. Это был диалог глухих. Столкнулись два типа мышления, абсолютно чуждые и взаимоисключающие друг друга.
В те времена учили без обращения к опыту, данные последнего не считались авторитетными и доказательными, господствовал априоризм схоластического толка. Считалось, скажем, само собой разумеющейся истиной, что тело, весящее в десять раз больше другого тела, падает в десять раз быстрее. И это не в религиозных, а в научных кругах. Галилей на собственном опыте мог убедиться в справедливости сократовского афоризма: "Я знаю, что ничего не знаю, а они не знают даже этого". Ведь невеждам всякое новое знание кажется лишним. А уж если оно возвышает человека над теми, кто считается в обществе авторитетом, то носитель этого знания начинает казаться им прямо-таки невыносимым.
Эпохе Галилея, столь богатой талантами во всех сферах интеллектуальной и творческой деятельности (в год рождения Галилея умер Микелапджело, активная пора жизни ученого совпадает с расцветом гения Шекспира и открытием Кеплером его знаменитых законов планетных движений и т. д.), недоставало существенного звена – восприимчивости к таланту.
Сплошь и рядом самодовольная посредственность торжествовала над умом и талантом, подлость и низость – над честностью и искренностью. Приспособленчество было возведено в моральную норму существования и поведения.
Делалось все, чтобы естественное для творческого ума состояние недовольства самим собою, за что, собственно, и стоит, как говорит Галилей, "приплачивать" ученому, заменялось недовольством власть имущими. Грубый утилитаризм, с одной стороны, и абсолютная нетерпимость к новому с другой, превращали жизнь ученого в непрерывную нравственную муку.
Легко жилось не таланту, а посредственности, которая, кстати, и по природе своей более живуча. Посредственность, тонко подметил Гегель, держится своей "долговечностью", ибо умеет убедить окружающий мир в правоте своих маленьких мыслей: она "уничтожает яркую духовную жизнь, превращает ее в голую рутину и, таким образом, обеспечивает себе длительное существование" [Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1975, т. 2, с. 56.]. Таланту надо всегда "помогать", чтобы его потенции выявились с наибольшей полнотой, а посредственность и сама "пробьется", заставит с собою считаться.