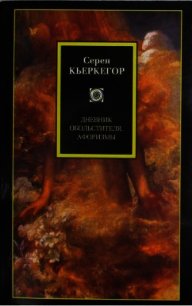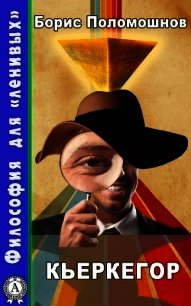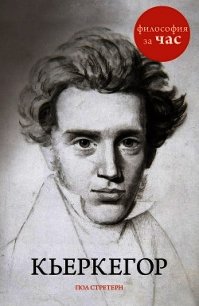Понятие страха - Кьеркегор Обю Серен (читаем книги онлайн бесплатно полностью txt) 📗
Таким образом, мы снова вернулись туда, где мы были в главе первой. Страх это психологическое состояние, которое предшествует греху; страх тут подходит к греху возможно ближе, страшась возможно больше, однако он не объясняет грех, каковой появляется внезапно только в качественном прыжке.
В то мгновение, когда полагается грех, временность оказывается греховностью . Мы не утверждаем, будто временность есть греховность, точно так же как не утверждаем, что чувственность есть греховность, однако когда грех полагается, временность означает греховность. Поэтому грешит тот, кто живет только в мгновении как абстракции от вечного. Если бы Адам — как я уже говорил ради удобства, хоть это и казалось глупым, — не согрешил, он в то же самое мгновение перешел бы в вечность. Но как только полагается грех, бесполезно пытаться абстрагироваться от временности, точно так же как и от чувственности .
§1. СТРАХ БЕЗДУХОВНОСТИ
Когда рассматриваешь жизнь вообще, быстро убеждаешься в следующем: несмотря на справедливость утверждения, что страх является последним психологическим состоянием, из которого вырывается наружу грех посредством качественного прыжка, все язычество и его повторение внутри христианства все-таки заключено в чисто количественном определении, от которого не отрывается полностью качественный прыжок греха. При этом такое состояние вовсе не является состоянием невинности, но, будучи рассмотренным с точки зрения духа, есть как раз состояние греховности.
Поистине замечательно, что христианская ортодоксия всегда учила, будто язычество погрязло в грехе, между тем как на самом деле сознание греховности полагается лишь через христианство. При всем том ортодоксия, безусловно, права, ей нужно лишь выражаться несколько точнее. Посредством исчисляющих определений язычество как бы растягивает время, но никогда не достигает греха в наиболее глубоком смысле, — а это как раз и является грехом.
То, что это справедливо для язычества, нетрудно доказать. С язычеством же внутри христианства отношения строятся иначе. Жизнь христианского язычества не является ни виновной, ни невинной, оно, собственно, не ведает разницы между настоящим, прошедшим, будущим, вечным. Его жизнь и его история протекают внутри, подобно тому как в давние дни письмо ложилось на бумагу, когда еще не применялись разделительные знаки и одно слово небрежно цеплялось за другое, одно предложение присоединялось к следующему. С эстетической точки зрения все это совершенно комично; ибо хотя и прекрасно слышать, как один ручеек тихо струится через всю жизнь, тем не менее все становится комичным, когда сумма разумных существ превращается в вечное бормотание, лишенное смысла. Не знаю, может ли философия использовать это plebs ("множество" (лат.)) в качестве категории, позволяя ей стать основанием для чего-то большего, подобно тому как это происходит с тростником в растительном мире, когда он постепенно становится твердой землей вначале просто торфом, а потом чем-то большим. С точки зрения духа подобное существование есть грех, и самое меньшее, что можно для него сделать, — это высказать это и тем самым потребовать от него присутствия духа.
Но то, что сказано здесь, не относится к язычеству. Подобная экзистенция может находиться лишь внутри христианства. Причина этого в том, что, чем выше установлен дух, тем глубже проявляется исключение, равно как и в том, что, чем выше то, что было потеряно, тем более жалки бесчувственные (???????????) в своем довольстве. Если сравнить такое блаженство бездуховности с положением рабов в язычестве, в этом рабском состоянии все же находится некоторый смысл, ибо оно вообще не является ничем в себе самом. Напротив, потерянность бездуховности — это самое ужасное из всего; ибо несчастье заключено как раз в том, что бездуховность стоит к духу в отношении, которое есть Ничто. Потому бездуховности может до некоторой степени быть свойственно общее с духом содержание, которое — и это надо отметить — проявляется не как дух, но как шутка, галиматья, остроумная фраза и тому подобное. Ей может быть свойственна и истина, но — и это надо отметить — не как истина, но как молва и бабьи сплетни. С эстетической точки зрения это и составляет нечто глубоко комическое в бездуховности, нечто, на что обыкновенно не обращают внимания, поскольку и сам представитель такой бездуховности в той или иной мере не уверен в том, что относится к духу. Поэтому, когда приходится представлять бездуховность, в уста ей охотно вкладывают пустую болтовню, поскольку человеку не хватает мужества позволить ей употреблять те же самые слова, которыми пользуется он сам. Это и есть неуверенность. Бездуховность вполне может говорить то же самое, что произнес истинный дух, — вот только говорит она это не силою духа. Будучи определенным бездуховно, человек стал говорящей машиной, и этому нисколько не мешает то, что он с одинаковым успехом может обучиться философским высокопарностям или же знанию веры и политическому речитативу.
Разве не удивительно, что единственный ироник и величайший юморист должны объединиться вместе, чтобы высказать то, что кажется самым простым, иначе говоря, что следует различать между то, что понимают, и тем, что не понимают, и что должно препятствовать тому, чтобы даже самый бездуховный человек был готов все время дословно твердить одно и то же? Существует лишь одно доказательство духа — это свидетельство духа в самом себе; каждый, кто требует чего-то иного, во множестве собирая соответствующие доказательства, все равно уже тем самым он определен как бездуховный.
В бездуховности нет никакого страха, поэтому она слишком счастлива и довольна и слишком бездуховна. Однако это поистине печальное основание, и язычество отличается от бездуховности тем, что оно определено по направлению к духу, тогда как бездуховность — по направлению прочь от духа. Поэтому язычество это, если угодно, отсутствие духа, и тем самым оно существенно отделено от бездуховности. В этом смысле язычество вообще куда предпочтительнее. Бездуховность — это стагнация духа и искаженный образ идеальности. Поэтому бездуховность, собственно, не тупа, как об этом обычно болтают, но она бессильна в том смысле, в каком сказано: "Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?" Ее гибельность, но также и ее надежность заключены как раз в том, что она ничего не постигает духовно, ничто не рассматривает как свою задачу, даже если она и в состоянии притронуться ко всему в своей скользкой вялости. А потому, случись так, что ее один-единственный раз коснется дух, и в то же самое мгновение она начнет биться как гальванизированная лягушка, наступает явление, полностью соответствующее стадии языческого фетишизма. Для бездуховности нет никакого авторитета, поскольку ей ведь известно, что для духа нет никаких авторитетов; но так как, к несчастью, она сама не является духом, то, вопреки тому, что ей известно, она оказывается законченной идолопоклонницей. Она поклоняется растяпе и герою с одинаковым рвением, но настоящим ее фетишем выступает все-таки шарлатан.
В бездуховности как бы нет никакого страха, но поскольку он исключается лишь когда появляется дух, страх уже наличествует тут, хотя и ждет до поры до времени. Можно представить себе, что должник находит удовольствие в том, чтобы избегать кредитора и водить его за нос пустыми обещаниями; есть, однако, такой кредитор, который никогда не бывает в убытке, и этот кредитор — дух. Поэтому, с точки зрения духа, страх присутствует и в бездуховности, однако там он спрятан и заглушен. Даже при рассмотрении становится не по себе от взгляда на это; ибо, сколь ни ужасен образ страха, если таковой пытаются создать силой воображения, этот образ будет ужасать куда сильнее, когда страх сочтет для себя необходимым маскироваться, чтобы не выступать таким, каким он есть, хотя он именно таков.
Когда смерть является в своем истинном обличье — как худой невеселый косарь, — на нее уже смотрят не без ужаса, когда же, чтобы посмеяться над людьми, которые сами воображают, будто могут посмеяться над ней, она появляется переодевшись, и только один-единственный наблюдатель видит, что та незнакомка, которая привлекает всех своей учтивостью и позволяет всем веселиться в необузданной распущенности сладострастия, на самом деле есть смерть, его охватывает еще более глубокое содрогание.