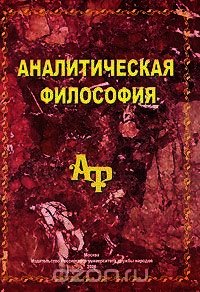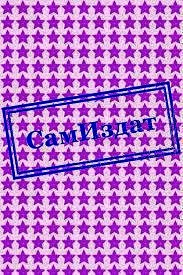Достоевский и Ницше - Шестов Лев Исаакович (книги онлайн полные версии TXT) 📗
XVI
Все это, разумеется, не «научно», более того, – все это находится в прямой противоположности с основными предпосылками современной науки. И Достоевскому лучше, чем кому-либо другому, известно, как мало опоры могут дать ему новейшие приобретения и завоевания человеческого ума. Оттого-то он никогда не пытается сделать науку своей союзницей и вместе с тем равно остерегается вступить с ней в борьбу ее же оружием. Он отлично понимает, что нет более залогов от небес. Но торжество науки, несомненность и очевидность ее правоты не приводят Достоевского к покорности. Ведь он уже давно сказал нам, что для него стена не непреоборимое препятствие, а только отвод, предлог. На все научные соображения у него один ответ (Димитрий Карамазов): «Как я буду под землей без Бога? Каторжному без Бога быть невозможно». [38] Раскольников вызывает яростную, непримиримую ненависть в товарищах-арестантах своей научностью, своей приверженностью несомненной видимости, своим неверием, которое они, по словам Достоевского, сразу в нем почувствовали. «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь, – кричали они ему. – Убить тебя надо!» [39] Все это, само собою разумеется, нелогично. Из того, что каторжники видят в неверии страшнейшее из преступлений, вовсе не следует, что нам должно отказаться от несомненных выводов науки. Погибай все каторжные и подземные люди, – не пересматривать же из-за них вновь приобретенные трудом десятков поколений людей аксиомы, не отказываться же от априорных суждений, только всего сто лет тому назад оправданных, наконец, благодаря великому гению кенигсбергского философа. Такова ясная логика надземных людей, противоставляемая неопределенным стремлениям обитателей подполья. Примирить спорящие стороны невозможно. Они борются до последнего истощения сил – и à la guerre, comme à la guerre, [40] – средства борьбы не разбираются. Каторжников чернят, бранят, смешивают с грязью с тех пор, как стоит мир. Достоевский пробует применить те же приемы и к вольным людям. Отчего, например, не выставить в карикатурном, опошленном виде ученого? Отчего не высмеять Клода Бернара? Или не оклеветать и не оплевать журналиста, сотрудника либерального издания, а вместе с ним и всех либерально мыслящих людей? Достоевский не остановился пред этим. Чего он только не измыслил по поводу Ракитина! Самый отчаянный каторжник кажется благородным рыцарем в сравнении с этим будущим предводителем либералов, не брезгающим взять на себя за 25 рублей роль сводника. Все, рассказанное о Ракитине, настоящая клевета на либералов, и клевета предумышленная. Можно говорить о них что хотите, но несомненно, что самые лучшие и честные люди становились в их ряды. Но ненависть не разбирает средств. Они в Бога не веруют, убить их надо – вот внутренний импульс Достоевского, вот что движет им, когда он измышляет разного рода небылицы по поводу своих бывших союзников-либералов. «Пушкинская речь», в которой, по-видимому, звались к единению все слои и партии русского общества, на самом деле была провозглашением вечной борьбы насмерть. «Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек» – разве Достоевский не знал, что эти слова вызовут целую бурю негодования и возмущения именно у тех, кого они предназначалсь замирить? Что они значат? Они зовут надземных людей в подземелье, в каторгу, в вечную тьму. Да разве хоть на минуту смел Достоевский надеяться, что за ним пойдут?! Он знал, он слишком знал, что те из его слушателей, которые не пожелают лицемерить, не примут его призыва. «Мы хотим быть счастливы здесь, теперь» – вот что думает каждый надземный человек, – какое ему дело до того, что Достоевский все еще не вышел из своей каторги! Рассказывают, что все присутствовавшие на пушкинском празднестве были необычайно тронуты речью Достоевского. Многие даже плакали. Но чему же тут дивиться? Ведь слова оратора были приняты слушателями за литературу и только за литературу. Отчего же не умилиться и не поплакать? Самая обыкновенная история.
Но нашлись и такие люди, которые посмотрели на дело иначе и стали возражать. Достоевскому ответили, что охотно принимают его высокие слова о любви, но это нисколько не мешает и не должно мешать людям «заботиться об устройстве земного счастья» или, иначе говоря, иметь «общественные идеалы». Допусти Достоевский это, только это одно ограничение, и он мог бы навеки замириться с либералами. Но он не только не пошел на уступку, он обрушился на профессора Градовского, взявшегося защищать дело либералов, с такой безудержной яростью, точно Градовский отнимал у него самое последнее его достояние. И главное, ведь Градовский не только не отказывался от высокого учения о любви к людям, которому Достоевский посвятил в своем дневнике писателя, в своих романах и «Пушкинской речи» столько пламенных страниц, – но, наоборот, на нем и только на нем основывал все свои планы общественного устройства.
Но именно этого больше всего боялся Достоевский. У Ренана в его предисловии к «Истории Израиля» есть любопытная оценка значения еврейских пророков: «Ils sont fanatiques de justice sociale et proclament hautement que si le monde n’est pas juste ou susceptible de le devenir, il vaut mieux qu’il soit détruit: manière de voir très fausse, mais très féconde; car comme toutes les doctrines désespérées, elle produit l’héroisme et un grand éveil des forces humaines». Точно так же отнесся пр. Градовский к идеям Достоевского. Он находил их «по существу» ложными, но признавал их плодотворными, т. е. способными пробудить людей и дать тех героев, без которых невозможно движение вперед человечества. Собственно говоря, и желать большего нельзя. С «учителя», по крайней мере, должно было быть достаточно. Но Достоевский в таком отношении к себе увидел свой приговор. Ему «плодотворности» не нужно было. Он не хотел довольствоваться красивой ролью старика кардинала в «Великом инквизиторе». Одного, только одного искал он: убедиться в «истинности» своей идеи. И, если бы потребовалось, он готов был бы разрушить весь мир, обречь человечество на вечные страдания – только бы доставить торжество своей идее, только бы снять с нее подозрения в ее несоответствии с действительностью. Хуже всего было то, что в глубине души он и сам, очевидно, боялся, что правота не на его стороне, и что противники, хотя и поверхностней его, но зато ближе к истине. Это-то и возбуждает в нем такую ярость, это-то и лишает его самообладания, оттого он в своей полемике против пр. Градовского переходит всякие границы приличия. Что, если все происходит именно так, как говорят ученые, и его собственная деятельность в конце концов, помимо его воли, сыграет в руку либералам, окажется плодотворной, а руководившая им идея – ложной, и чертово добро рано или поздно на самом деле водворится на земле, заселенной довольными, радостными, сияющими счастьем, обновленными людьми?
Само собою разумеется, что человеку таких воззрений и настроений благоразумнее всего было бы не пускаться в публицистику, где неизбежно сталкиваешься с практическим вопросом: что делать? В романах, в философских рассуждениях можно, например, утверждать, что русский народ любит страдания. Но как применить такое положение на практике? Предложить устройство комитета, охраняющего русских людей от счастья?! Очевидно, это не годится. Но мало того – невозможно даже постоянно выражать свою радость по поводу предстоящих человечеству случаев понести страдание. Нельзя торжествовать, когда людей постигают болезни, голод, нельзя радоваться бедности, пьянству. За это ведь камнями забросают. Н. К. Михайловский передает, что высказанная в статьях январского номера «Отеч. Записок» за 1873 год мысль, что «народу после реформы, а отчасти даже в связи с ней, грозит беда быть умственно, нравственно и экономически обобранным» – показалась Достоевскому «новым откровением». Весьма вероятно, что Достоевский именно так понял или, вернее, истолковал смысл статей «Отечественных Записок». Реформа, на которую мечтатели возлагали столько надежд, не только не принесет ненавистного «счастья», но грозит страшной бедой. Дело, очевидно, обойдется и без джентльмена с ретроградной физиономией, на которого ссылался подпольный диалектик. До хрустального дворца – далеко, если самые возвышенные и благородные начинания приносят вместо богатых плодов одни несчастия. Правда, как публицист, Достоевский таких вещей не говорил прямо. Его «жестокость» не рисковала еще быть столь откровенной. Даже более того, он сам никогда не пропускал случая бичевать – и как бичевать! – всякого рода проявления жестокости. Например, он восставал против европейского прогресса на том «основании», что «прольются реки крови», прежде чем борьба классов приведет хоть к чему-нибудь путному наших западных соседей. Это был один из любимейших его аргументов, который он не уставал повторять десятки раз. Но тут только можно особенно наглядно убедиться, что все argumenta суть argumenta ad homines. [41] Достоевский ли боялся ужасов и крови? Но он знал, чем можно подействовать на людей, и, когда нужно было, рисовал страшные картины. Почти одновременно он и укорял европейцев за их пока все еще относительно бескровную борьбу, и заклинал русских идти войной на турок, хотя, конечно, одна самая скромная война требует больше крови, чем десяток революций. Или другой, еще более поразительный пример аргументации. Достоевский рассказывает, что кто-то из его «знакомых» высказался за сохранение розог для детей, ввиду того, что телесные наказания закаляют и приучают к борьбе. До мнения «знакомого» (у Достоевского, в «Дневнике писателя», тьма «знакомых», высказывающих «оригинальные» мысли) нам, конечно, дела нет, но любопытно, что сам Достоевский этим мнением заинтересовался и обещает на досуге подумать о нем. А между тем тот же Достоевский, так охотно наделяющий людей, даже детей, страданиями, вдруг впадает в сентиментальность и чувствительность, когда заходит речь о судьбе мужа пушкинской Татьяны. Его покинуть, его сделать несчастным, – если бы Татьяна решилась на это, – померкли бы навсегда все идеалы! Ну-с, а ведь даже и не меж сторонниками «жестокости», я думаю, найдется не один человек, который признает, что приличная порция «страданий» была бы совсем не бесполезна этому господину, так высоко поднимавшему и нос, и плечи. Во всяком случае, не менее полезна, чем русским детям, которые, как известно, и вне школы не забываются «страданиями». Таких примеров у Достоевского можно найти очень много. На одной странице он требует от нас самоотречения во имя того, чтоб избавлять от страданий ближних, а на другой, почти соседней, он воспевает эти же страдания…