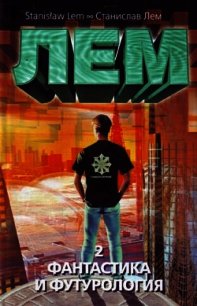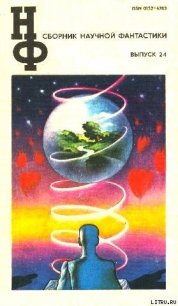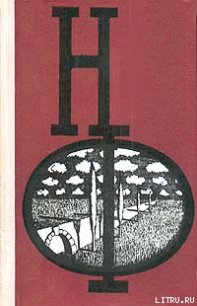Фантастика и футурология. Книга 2 - Лем Станислав (бесплатные книги полный формат txt) 📗
Из сказанного следует, что тема роботов в такой степени заслуживает критико-литературного выделения, в какой проявляет антропологические свойства. Так как в ней просматривается исходящий с технологических позиций выпад как бы на саму сущность человечности, который представляет собою такую дихотомию: либо это кажущийся, то есть лишь художественный прием, благодаря которому с определенной гиперболизацией и в своеобразных пропорциях проявляются более или менее традиционные, всегда чисто культурные этические, социальные проблемы, либо же он наполнен составляющими серьезной прогностической гипотезы. Во втором случае речь идет о вопросе, адресованном как бы имманентно человеческим свойствам, подвергающимся победоносной технологией сомнению в их якобы вечной уникальности. Действительно, очень интересен и заставляет задуматься вопрос, сколь часто различные авторитеты утверждали, что суверенной позиции человека не может угрожать технологическая опасность, потому что «машина не в состоянии мыслить творчески», а одновременно утверждающий это даже не задумывается над проблемой, состоящей в том, что далеко не все люди умеют мыслить творчески. Демонизм гомункулистского мифа не угрожает нам ничуть; только экономический расчет, соображения материального характера, соотношение предложения и спроса, одним словом – градиенты цивилизационного роста будут решать вопрос о том, когда, много ли и каких андроидов, а также роботов будут изготовлять в грядущем. Из-за этого тема приобретает с самого начала общественное звучание: одновременно и «персональное» в потенции, в соответствии с картиной «осады личности ее манекенными имитациями», и, наконец, психологическое. Поскольку речь идет о ситуации, в которой соотношение «предмет – субъект» подвергается коварной метаморфозе: машина, бывшая предметом, получает как бы «подкопом» субъективные признаки разума. И наконец, все это имеет онтологическое измерение и границы не как воображение о «бунте роботов», а в свете предсказания, что можно построить искусственное существо, более совершенное, нежели человек, «более достойное», чем он, быть вместилищем разума.
Что сотворила научная фантастика со столь многоаспектной темой? Сказать, что просто упустила ее, было бы несправедливо. Но ее неуклюжесть в беллетристической области превышает ее столь упорная, что она даже кажется умышленной, слепота в виде опасения либо нежелания рассматривать техническую реализацию мифа Голема – в его максимально возможной широте и полноте. Не то скверно, что научная фантастика играет роботами эскапистски, пугающе либо сказочно, а то, что немногим больше может с ними сделать. Она поступает, как человек, который из широко раскинувшего корни дуба делает блестящие, элегантные предметы мебели. Чтобы так поступать, надо сначала срубить все ветви и эти места старательно загладить. В соответствии с присущей ей традицией литература поступает иначе: она не только не пугается чрезмерно разросшихся проблем, таинственно срастающихся с наиболее удаленными, но упорно извлекает на дневной свет все такие сращения, всю путаницу, даже если из-за этого вынуждена будет отказаться от легких аплодисментов.
Но надо отдать должное и фантастике: она сплющила, упростила и фальсифицировала множество проблем, но таких, которых литература не коснулась вообще. Так что же лучше: поверхностно и скверно открывать неведомые страны или не заходить в них вообще? Пожалуй, все же первое лучше. Поскольку пути, которые стольких авторов увели на бездорожье, все же были ими замечены, и тогда возник лес указателей, которые, хоть и неточно сориентированы, все же указывают реальное направление работ, кои цивилизационные усилия когда-либо позволят выполнить. В историческом ракурсе беспомощность предвестников, даже самая большая, становится простительным грехом, и даже той ценой, которую они платили за вторжение мыслью в новый мир.
III. Космос и фантастика
Вступление
То, что когда-то экспедицию в Космос невозможно было предвидеть как реальное свершение, представляется нам понятным. Но гораздо труднее уразуметь, что о ней невозможно было подумать даже как о неосуществимой фикции. Но так оно и было. Чтобы лучше понять подобную инертность мысли, надо представить себе тот долгий путь, вдоль которого эволюционировало понятие Космоса.
Ведь невозможно направляться куда-либо даже мысленно, если не имеешь никакого представления относительно свойств этого «куда-либо» и даже не знаешь, говорится ли о некоем «месте» или «местах», кои вообще возможно обозреть. Звезды, естественно, видела древность, видел их и пещерный человек, но только застывшей локализацией еженощного помигивания, отличались они при таком осмотре от, скажем, солнечных бликов на воде. Так что, собственно, акты невероятной интеллектуальной дерзости, которая потребовалась для формулирования первых гипотез о солнцеподобной природе звезд, пожалуй, уже неподвластны нашим оценкам и представляют собою исторически неповторимые по своей смелости познавательные деяния человека. Одновременно то были и акты фантазии, стремящейся отделить феномены наблюдаемого мира от сферы антропоморфических понятий, то есть начало ее движения в сторону, как бы противоположную той, в которую перемещалась религиотворящая мысль. Так как это фантазирование было прежде всего исторически облечено санкцией сакральной серьезности. Мышление человеческое, как это теперь видно с исторической перспективы, в действительности представляется аппаратом двухполюсным и одновременно двухскоростным. Мир мысли был всегда заполнен, то есть в нем не было каких-либо «пустых» мест или пробелов. Мы не можем знать, из какого ядра вылупился первоначальный образ мира, но, единожды уже сконструировавшись, а произошло это во внеисторические времена, его структура в принципе была системно такой же, как и сейчас. Чисто инструментальные действия, связанные с поддержанием жизни, не были, вероятно, укоренены в целостном воображении «всего, что существует». Если мы говорим, что мир первобытной мысли был структурно подобен нашему, то хотим этим подчеркнуть, что, как тому нас учит сегодня сравнительная антропология, эта мысль подчинялась принципиально тем же законам, что и наша – индукции, включения, исключения и т.п. Тому, что даже недосягаемые объекты, звезды, следует подвергнуть такому же типу операций, каким подчиняется расщепление кремня и выстругивание сохи, надо было учиться веками. Но ведь центр мануальных, инструментальных действий, хотя и не распознанный в своей экспансивной потенции, был с человеком с самого начала его очеловечения, понимаемого как усилия по освоению мира и подчинению его себе. Так что исходная неподчиненность мира подвергалась нападкам всегда, хотя первоначальные формы этой борьбы мы считаем ошибкой; но они ошибочны только в смысле объективной, то есть эмпирической никчемности, а наверняка не как мысль, использованная для того, чтобы идеально свести воедино члены оппозиции: мир и человек. Именно так двигалась первоначальная мысль; она боролась за эту сводимость и поэтому называла мир либо врагом, либо покровителем человека. А поскольку в чувственно воспринимаемых феноменах мир не всегда явно походил на то или другое, то сами эти феномены считали одной лишь стороной, одной фасеткой, одним аспектом вещей, вплавленных «тылом» или другой, внепространственной формой продолжений – в трансцендентность. Трансцендентность же, в свою очередь, являла в секулярных тенденциях заметное общее отступление, как бы уход из наблюдаемого мира. Так в чем же системные подобия древнейшего и современного царства мысли? В том, что двудольным, двухполюсным или, как мы назвали его по аналогии с механической параллелью, двухходовым оно было всегда. Конечно, первичная трансцендентность как «вторая скорость» мысли не была распознана именно в таком качестве, то есть в виде «выхода за пределы». Ведь сначала надо было эмпирическое отграничить от того, что таковым не является, ибо лишь с такой классификационной «метапозиции» можно было выявить места, в которых возможно наглядное и поддающееся опыту трансцендентирование реальности. Значит, то, что работа была зачатком эмпирии, и то, что магическое мышление было зародышем трансцендентности, существовало неразрывно. Но уже тогда началось то движение, которое впоследствии обнаружило атомы и вывело машины на лунные пути, и именно с такой перспективы видения мы получаем право распознавать генеральное системное торжество человеческого мышления. Однако существовало и повторялось грубыми коллизиями противоречие между обеими гигантскими сферами царства мысли, поскольку при отсутствии ранней экспансивной эмпирии агрессивное мышление «второго полюса», «второй скорости» конструировало определенную целостность картины мира, а также образ Космоса – сакрально, религиозно зачатый и в соответствии с верой сконструированный в различных проявлениях. А коли так, то есть сакрально данная понятийная слитность бытия вступила в явное противоречие с постулатами мысли, порожденной противоположным полюсом, то неизбежны были их столкновения. Однако проблема как объект спора допускала обмен: можно было, как мы знаем, добиваться высокой степени коэкзистенции «обеих мыслей». Ибо все, что высказывается в религиозном порядке и является экспрессией веры, есть система символов, которые отнюдь не следует трактовать дословно. Их всегда можно признать жестом обороны, желанием сохранения веры. Считать, что эти символы – всего лишь зримые воплощения принципиально невидимого, невыражаемого иначе Откровения, и даже – в приливе еретического экуменизма – что эти, а не иные знаки (то есть эта, а не иная догматика) только и становятся инкорпорацией некой партикулярной Высшей Тождественности, коя, совершенно непосредственно, без использования каких-либо символик, современным существам показать себя не может.