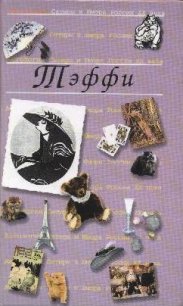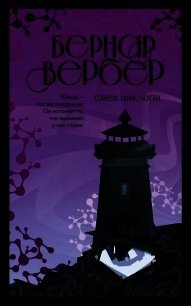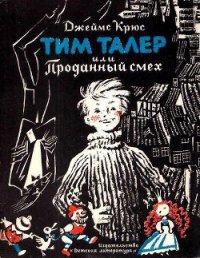Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания - Березин Сергей Викторович (книги без сокращений .txt) 📗
Принцип «словотворчества», изобретенный Кагобаи, как кажется, ничем не отличается от подобного принципа, изобретенного знаменитой Уошо. Вспомним сочиненное ей новообразование «арбуз», состоящее из знаков «конфета» и «питье». Отличие как будто одно — Уошо монтирует новое слово из готовых смысловых кубиков, а Кагобаи, ловкий и умелый рыболов, успешный и трудолюбивый садовод, общительный и включенный в жизнь людей родного острова человек, пользующийся всеобщим уважением, сам изобретает знаки, монтируя их по тому же принципу последовательности. Однако сходство этих двух операций чисто поверхностно, иллюзорно. И особенно показательно отличие принципа «словотворчества» Кагобаи и Уошо раскрывается в придуманном Кагобаи слове «прошлое». Вяч. Вс. Иванов пишет:
Знак, обозначающий «прошлое», состоит из первого «кадра» — левая рука указывает вперед (на языке этого острова «предки» обозначаются как «поколение впереди») — и второго «кадра», показывающего, как правой рукой отрезают голову. Монтаж этих кадров означает: прошлое — это время, когда убивали [39].
Любопытно, что, говоря о прошедшем времени, Кагобаи, живущий в первой половине XX века на Соломоновых островах, подобно всем своим соплеменникам, воспринимает течение времени еще как движение по кругу. Поэтому для него существует так называемое фиксированное прошлое, также как и «фиксированное будущее», потому что при движении по кругу прошлое находится как позади, так и впереди говорящего. Следует отметить, что в сознании людей и в языке подобные представления сохранялись довольно долго. Например, в древнерусском языке было выражение «заднее время», которое обозначало не прошлое, как может показаться современному человеку, мыслящему время как линейное, а будущее. Если бы Кагобаи вырос в глухой деревне, где-нибудь под Орлом, в XIX веке, то, изобретая знак «прошлое», он, живя в христианском линейном времени, указал бы большим пальцем руки через плечо назад. Не исключено, что именно так обозначал прошлое для своих односельчан тургеневский Герасим, тоже изобретавший свой знаковый язык самостоятельно. Второй знак — «отрубление головы» — Герасим явно не употребил бы. Общество, в котором жил Кагобаи, еще хранило яркие воспоминания об относительно недавних временах господства первобытного сознания, когда ритуал охоты за головами занимал в жизни островитян весьма значительное место, имел большую жизненную актуальность (не добыв головы, юноша не мог стать мужчиной и жениться). Для общества же, в котором жил Герасим, инициация была столь далеким прошлым, что следы ее сохранились разве что в сказке, и Герасиму пришлось бы придумывать другой знак для обозначения отдаленных времен.
Мы уже говорили о том, что Гарднеры, фиксируя «словотворчество» Уошо, отметили, как обезьяна, вынужденная расстаться с любимой ею заболевшей собачкой, тяжело переживала этот факт и довольно долго демонстрировала в одной и той же последовательности жестовые знаки «собака» и «боль». Эта ситуация невольно наталкивает на воспоминания о культовом произведении не только русской литературы XIX века, но и всей русской культуры — повести И.С. Тургенева «Муму». Нехитрый сюжет этого произведения известен каждому. Могучий и добрый крестьянин-земледелец, подобный былинному богатырю Микуле Селяниновичу, крепостной мужик Герасим вырван из родной ему среды, оторван от матери сырой земли и волей капризной, истеричной, мстительной, слабовольной и немощной старухи-бары-ни водворен в ее московскую усадьбу. Показательно, что тургеневский Герасим, глухонемой от рождения, но прекрасно адаптировавшийся в родной деревне, подобно Кагобаи, живущему самодостаточной и гармоничной жизнью родного острова в океане, долго и мучительно привыкает к роли слуги-дворника в столице. Пережив личную драму, Герасим спасает щенка, привязанность к которому занимает в жизни героя огромное место.
Выловленный из реки щенок почти безнадежен, потому что его пытались утопить, как принято, еще слепым и только что отнятым от матери. Надежды на то, что он сможет есть самостоятельно, у встревоженного немого почти нет. И вдруг удалось. «Герасим глядел, глядел, да как засмеется вдруг…» Поняв, что полумертвый щенок, надежда на реанимацию которого весьма и весьма слаба, будет жить, герой Тургенева в первый и последний раз в тексте повести смеется.
Обрадовалась бы Уошо, увидев вернувшуюся к ней, по всей вероятности, погибшую собаку? Да, конечно. Была ли она способна засмеяться по этому поводу? Конечно, нет.
Можно ли оценить смех Герасима только как признак и проявление радости, ведь после этого он заснул «каким-то радостным и тихим сном»? Смех Герасима нельзя свести только к проявлению радости, его нельзя свести только к внешним проявлениям индивидуальных переживаний героя, он не ограничен рамками его ситуативного эмоционального реагирования — этот смех принадлежит пространству культуры человечества, обозначая границу жизни и смерти, бинарных оппозиций, моделирующих мир и недоступных мышлению животного.
Вообще повесть «Муму», несмотря на кажущиеся простоту сюжетной организации, ясность образной системы, понятность и однозначность идеи, как всякое настоящее произведение искусства, сложна и многопланова. Мы прекрасно понимаем, что «Муму» можно осмысливать, например, в «малом времени», и тогда это произведение о крепостном праве, о горькой судьбе крепостного человека в дореформенной России и т. д. Взгляд на повесть с точки зрения «большого времени» еще сложнее. Это произведение о величии и мощи человека, о внутренней свободе, о бунте и силе протеста, о стремлении человека сохранить свою личностную целостность. И даже, как кажется, о мощи природы, которую невозможно поработить (недаром Герасим немой, в чем, вероятно, таится некий символизм этого образа). Количество возможных интерпретаций огромно, хотя бы в связи с архетипическими образами, которые живут в художественной ткани этого произведения (богатырь, гигант и т. д.). Мы понимаем и другое — «Муму» создано конкретным писателем, особенности личности, таланта, психологического склада, индивидуального стиля которого не могли не придать произведению черт неизгладимого своеобразия. Однако, учитывая все это, мы имеем право взглянуть на одну из наиболее значимых сцен повести глазами людей, изучающих человеческие знаковые системы, а через них, в первую очередь, проблему человеческого сознания, и, проанализировав ее на поведенческом уровне, попытаться понять тот широчайший диапазон смыслов, который несет «самодельная», «беззвучная» жестовая речь Герасима. Мы имеем в виду сцену, в которой Герасим свободно и ответственно берет на себя роль палача по отношению к Муму.
Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка уперши руки в бока; в своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед.
— Смотри, брат, — промолвил он, — у меня не озорничай.
И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки: подавай, мол, ее сейчас, а то беда будет.
Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукою у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.
— Да, да, — возразил тот, кивая головой, — да, непременно.
Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму.
— Да ты обманешь, — замахал ему в ответ Гаврила. Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь. Все молча переглянулись.
— Что ж это такое значит? — начал Гаврила. — Он заперся?
— Оставьте его, Гаврила Андреич, — промолвил Степан, — он сделает, коли обещал. Уж он такой… Уж коли он обещает, это наверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да.
— Да, — повторили все и тряхнули головами. — Это так. Да.
Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал: «Да».