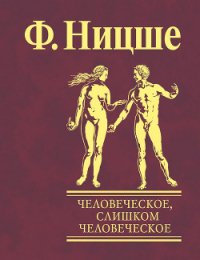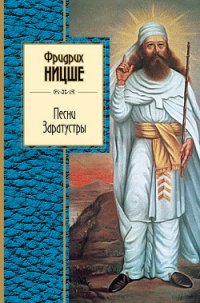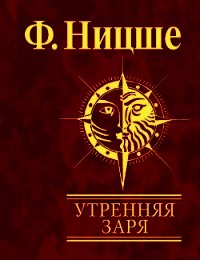По ту сторону добра и зла - Ницше Фридрих Вильгельм (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
193
Quidquid luce fuit, tenebris agit – но также и наоборот. То, что мы переживаем в сновидении, предполагая, что мы переживаем это часто, точно так же составляет часть внутреннего мира нашей души, как и что-нибудь пережитое «действительно»: оно делает нас богаче или беднее, даёт нам одной потребностью больше или меньше, и в конце концов среди белого дня и даже в самые светлые минуты нашего бодрствующего духа нас до некоторой степени убаюкивает то, к чему мы приучены нашими сновидениями. Положим, что кто-нибудь часто летал во сне и наконец при всяком сновидении чувствует в себе силу и искусство летать, как своё преимущество, а также как присущее ему в высшей степени завидное счастье: разве такому человеку, который считает для себя возможным по малейшему импульсу описывать всякие виды дуг и углов, – которому знакомо чувство известного божественного легкомыслия, знакомо движение «вверх» без напряжения и принуждения, движение «вниз» без опускания и снижения – без тяжести! – разве человеку, испытавшему это и привыкшему к этому в своих сновидениях, слово «счастье» не явится в конце концов в иной окраске и значении также и наяву! разве не должен он иначе желать счастья? «Полёт» в таком виде, как его описывают поэты, должен казаться ему, по сравнению с этим «летанием», слишком земным, мускульным, насильственным, уж слишком «тяжёлым».
194
Различие между людьми сказывается не только в различии скрижалей их благ, стало быть, не только в том, что они считают вполне желанными различные блага и вместе с тем не сходятся в сравнительной оценке, в установлении табели о рангах общепризнанных благ, – оно сказывается еще более в том, что считается ими за действительное обладание и владение каким-нибудь благом. По отношению к женщине, например, более скромному в своих требованиях человеку уже право располагать ее телом и удовлетворение полового чувства кажутся достаточным и удовлетворяющим его признаком обладания и владения; другой человек, со своей более недоверчивой и более притязательной алчностью к владению, видит в таком обладании «вопросительный знак», видит только его призрачность и хочет более тонких доказательств прежде всего, чтобы знать, только ли женщина отдается ему, или же она готова бросить ради него все, что имеет или чем очень дорожит, – лишь это и значит для него «владеть». Но третий и тут не останавливается в своем недоверии и жажде обладания; если женщина всем для него жертвует, то он спрашивает себя, не делает ли она этого ради фантома, созданного ее воображением: чтобы быть вообще любимым, он хочет прежде быть основательно, до глубочайших недр своих узнанным, – он отваживается дать разгадать себя. – Лишь тогда чувствует он, что вполне обладает своей возлюбленной, когда она уже не обманывается на его счет, когда она любит его так же сильно за его зло и скрытую ненасытность, как и за его доброту, терпение и умственное развитие. Один хотел бы владеть народом – и все высшие ухищрения Калиостро и Катилины годны в его глазах для этой цели. Другой, наделенный более утонченной жаждой владения, говорит себе: «нельзя обманывать там, где хочешь владеть», – его раздражает и беспокоит мысль, что сердцем народа владеет его маска: «итак, я должен дать узнать себя, прежде же должен сам узнать себя!» У людей тароватых на помощь и благодетельных мы встречаем почти регулярно то грубое лукавство, которое заведомо подгоняет к их желаниям того, кому нужно помочь: как если бы последний, например, «заслуживал» помощи, желал именно их помощи и за всякую помощь был им глубоко благодарен, признателен и предан; с такими фантазиями они распоряжаются нуждающимся как собственностью, так как именно стремление к собственности и заставляет их быть благодетельными и готовыми на помощь людьми. Они становятся ревнивыми, когда другие пересекают им путь благодетельствования или упреждают их в помощи. Родители невольно делают из ребенка нечто себе подобное – они называют это «воспитанием», – ни одна мать не сомневается в глубине души, что рожденный ею ребенок составляет ее собственность, ни один отец не подвергает сомнению своего права подчинить его своим понятиям и правилам. А некогда отцам даже казалось справедливым распоряжаться жизнью и смертью новорожденного по своему благоусмотрению (как у древних германцев). И как отец, так в наше время еще и учитель, сословие, пастор, князь видят в каждом новом человеке несомненный повод к новому владению. Откуда следует…
195
Евреи – народ, «рождённый для рабства», как говорит Тацит и весь античный мир, «избранный народ среди народов», как они сами говорят и думают, – евреи произвели тот фокус выворачивания ценностей наизнанку, благодаря которому жизнь на земле получила на несколько тысячелетий новую и опасную привлекательность: их пророки слили воедино «богатое», «безбожное», «злое», «насильственное», «чувственное» и впервые сделали бранным слово «мир». В этом перевороте ценностей (к которому относится и употребление слова «бедный» в качестве синонима слов: «святой» и «друг») заключается значение еврейского народа: с ним начинается восстание рабов в морали.
196
Можно сделать заключение о существовании возле Солнца бесчисленного количества темных тел – таких, которых мы никогда не увидим. Говоря между нами, это притча; и психолог морали читает все звездные письмена только как язык символов и знаков, который дает возможность замалчивать многое.
197
Мы совершенно не понимаем хищного животного и хищного человека (например, Чезаре Борджа), мы не понимаем «природы», пока еще ищем в основе этих здоровейших из всех тропических чудовищ и растений какой-то «болезненности» или даже врожденного им «ада», – как до сих пор делали все моралисты. По-видимому, моралисты питают ненависть к девственному лесу и тропикам. По-видимому, «тропического человека» хотят во что бы то ни стало дискредитировать, все равно, видя в нем болезнь и вырождение человека или сроднившиеся с ним ад и самоистязание. Но для чего? В пользу «умеренных поясов»? В пользу умеренного человека? Человека морального? Посредственного?
– Это к главе «Мораль как трусость». -
198
Все эти морали, обращающиеся к отдельной личности в целях её «счастья», как говорится, – что они такое, если не правила поведения, соответствующие степени опасности, среди которой отдельная личность живёт сама с собою; это рецепты против её страстей, против её хороших и дурных склонностей, поскольку они обладают волей к власти и желали бы разыгрывать из себя господина; это маленькие и большие благоразумности и ухищрения, пропитанные затхлым запахом старых домашних средств и старушечьей мудрости. Все они странны по форме и неразумны – потому что обращаются ко «всем», потому что обобщают там, где нельзя обобщать; все они изрекают безусловное и считают себя безусловными; всем им мало для приправы одной только крупицы соли – они, напротив, становятся сносными, а иногда даже и соблазнительными лишь тогда, когда чрезмерно сдобрены пряностями и начинают издавать опасный запах, прежде всего запах «иного мира». Все это, если взглянуть на дело разумно, имеет мало ценности и далеко еще не «наука», а тем паче «мудрость», но повторяю еще раз, и повторяю трижды, благоразумие, благоразумие и благоразумие, смешанное с глупостью, глупостью и глупостью, – будь это даже то равнодушие и та мраморная холодность к пылким дурачествам аффектов, которую рекомендовали и прививали стоики; или будь это «не плакать» и «не смеяться» Спинозы, столь наивно рекомендуемое им уничтожение аффектов посредством их анализа и вивисекции; или будь это низведение аффектов до степени безвредной посредственности, при которой они получают право на удовлетворение, – аристотелизм морали; или будь это даже мораль, как наслаждение аффектами, намеренно разреженными и одухотворенными символикой искусства, например музыки, или в форме любви к Богу и к человеку «по воле Божьей», ибо в религии страсти снова приобретают право гражданства, при условии, что…; или будь это, наконец, та предупредительная и шаловливая покорность аффектам, которой учили Хафиз и Гёте, то смелое бросание поводьев, та духовно-плотская licentia morum в исключительном случае старых, мудрых хрычей и пьяниц, у которых это «уже не опасно». Это тоже к главе «Мораль как трусость».