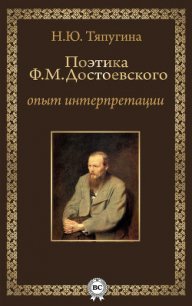Миросозерцание Достоевского - Бердяев Николай Александрович (версия книг TXT) 📗
Глава VI. Революция. Социализм
Достоевский – художник и мыслитель эпохи начавшейся подземной революции, революции в духе людей, в духе народа. На поверхности еще оставался старый строй жизни. В эпоху Александра III этот жизненный строй пытался еще в последний раз утвердить себя в кажущемся благообразии. Но внутренне все уже было в бурном движении. Сами идеологи и деятели этого движения не понимали до глубины характера совершающегося процесса. Не они создавали этот процесс, а процесс этот создавал их. Они были активны по внешним жестам, но пассивны по состоянию своего духа, отдавались во власть стихийных духов. Достоевский лучше понимал, что такое началось и к чему это идет. Он с гениальной прозорливостью почуял идейные основы и характер грядущей революции русской, а может быть, и всемирной. Он – пророк русской революции в самом бесспорном смысле этого слова. Революция совершилась по Достоевскому. Он раскрыл ее идейные основы, ее внутреннюю диалектику и дал ее образ. Он из глубины духа, из внутренних процессов постиг характер русской революции, а не из внешних событий окружающей его эмпирической действительности. «Бесы» – роман, написанный не о настоящем, а о грядущем. В русской действительности 60-х и 70-х годов не было еще ни Ставрогина, ни Кириллова, ни Шатова, ни П. Верховенского, ни Шигалева. Эти люди появились у нас позже, уже в XX веке, когда почва углубилась и начались у нас религиозные веяния. Нечаевское дело, которое послужило поводом к составлению фабулы «Бесов», в своей явленной эмпирии не походило на то, что раскрывается в «Бесах». Достоевский раскрывает глубину, выявляет последние начала, его не интересует поверхность вещей. Глубинные и последние начала должны раскрыться в грядущем. И Достоевский весь обращен к будущему, которое должно родиться от почуянного им бурного внутреннего движения. Самый характер его художественного дара может быть назван пророческим. И чрезвычайно антиномично его отношение к революции. Он – величайший изобличитель лжи и неправды того духа, который действует в революции, он предвидит в грядущем нарастание антихристова духа, духа человекобожества. Но нельзя было бы назвать Достоевского консерватором или реакционером в обычном, вульгарном смысле слова. Он был революционером духа в каком-то более глубоком смысле слова. Для него нет возврата к тому устойчивому, статическому душевно-телесному бытовому строю и укладу жизни, который века существовал до начавшейся революции духа. Достоевский слишком апокалиптически и эсхатологически настроен, чтобы представлять себе такой возврат, такую реставрацию старой, спокойной жизни. Он один из первых почуял, как ускоряется всякое движение в мире, как все идет к концу. «Конец мира идет», – заносит он в свою записную книжку. Консерватором, в обычном смысле слова, нельзя быть при такой настроенности. Вражда Достоевского к революции не была враждой бытового человека, отстаивающего какие-либо интересы старого строя жизни. Это была вражда апокалиптического человека, ставшего на сторону Христа в последней борьбе его с антихристом. Но тот, кто обращен к Христу Грядущему и к последней борьбе в конце времен, так же человек будущего, а не прошлого, как и тот, кто обращен к грядущему антихристу и в последней борьбе стал на его сторону. Обычная борьба революции и контрреволюции происходит на поверхности. В этой борьбе сталкиваются разные интересы, интересы тех, которые отходят в прошлое и вытесняются из жизни, с интересами тех, которые идут им на смену в первых местах на пиру жизни. Достоевский стоит вне этой борьбы за первые места земной жизни. Большие люди, люди духа, обычно ведь стояли вне такой борьбы и не могли быть причисленными ни к какому лагерю. Можно ли сказать, что Карлейль или Ницше принадлежат к лагерю «революции» или «контрреволюции»? Вероятно, они, как и Достоевский, должны быть признаны «контрреволюционерами» с точки зрения революционной черни и революционной демагогии. Но потому только, что всякий дух враждебен тому, что на поверхности жизни именуется «революциями», что революция духа вообще отрицает дух революции. Достоевский был таким апокалиптическим человеком последних времен. И к нему нельзя подходить с вульгарными и пошлыми критериями «революционности» или «контрреволюционности» старого мира. Для него революция была совершенно реакционной.
Достоевский открывает, что путь свободы, перешедший в своеволие, должен привести к бунту и к революции. Революция есть роковая судьба человека, отпавшего от божественных первооснов, понявшего свою свободу как пустое и бунтующее своеволие. Революция определяется не внешними причинами и условиями, она определяется изнутри. Она означает катастрофические изменения в самом первоначальном отношении человека к Богу, к миру и людям. Достоевский до глубины исследует путь, влекущий человека к революции, вскрывает его роковую внутреннюю диалектику. Это есть антропологическое исследование о пределах человеческой природы, о путях человеческой жизни. То, что обнаруживает Достоевский и в судьбах индивидуального человека, раскрывает он также и в судьбах народа, в судьбах общества. Вопрос «все ли дозволено?» стоит и перед индивидуальным человеком, и перед целым обществом. И те же пути, которые влекут отдельного человека к преступлению, влекут целое общество к революции. Это аналогичный опыт, схожий момент в судьбе. Подобно тому, как человек, преступивший в своеволии своем границы дозволенного, теряет свою свободу, и народ, в своеволии своем преступивший границы дозволенного, теряет свою свободу. Свобода переходит в насилие и рабство. Безбожная свобода истребляет себя. Этот роковой процесс утери свободы в революции и перерождение ее в неслыханное рабство пророчески предсказан Достоевским, и он гениально раскрывает его во всех его извилинах. Он не любил «революцию», потому что она ведет к рабству человека, к отрицанию свободы духа. Это – основной у него мотив. Из любви к свободе восстал он идейно против «революции», изобличил ее первоосновы, которые должны вести к рабству. Также должна «революция» привести и к отрицанию равенства и братства людей, к неслыханным неравенствам. Достоевский вскрывает обманный характер «революции». Она никогда не достигает того, чем прельщает. В «революции» антихрист подменяет Христа. Люди не захотели свободно соединиться во Христе, и потому они принудительно соединяются в антихристе.
Вопрос о природе «революции» для Достоевского был прежде всего вопросом о социализме. Проблема социализма всегда была в центре внимания Достоевского, и ему принадлежат самые глубокие мысли о социализме, которые когда-либо были высказаны. Он понял, что вопрос о социализме – религиозный вопрос, вопрос о Боге и бессмертии. «Социализм есть не только рабочий вопрос или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес к земле». Социализм решает вековечный вопрос о всемирном соединении людей, об устроении земного царства. Религиозная природа социализма особенно видна на социализме русском. Вопрос о русском социализме – апокалиптический вопрос, обращенный к всеразрушающему концу истории. Русский революционный социализм никогда не мыслится как относительное переходное состояние в социальном процессе, как временная форма экономического и политического устроения общества. Он мыслится всегда как окончательное и абсолютное состояние, как решение судеб человечества, как наступление царства Божьего на земле. «Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? – говорил Иван Карамазов. – Иные то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, 40 лет опять не будут знать друг друга, ну и что же, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца». В этом обнаруживается апокалиптическая природа «русских мальчиков». С этих разговоров «русских мальчиков» в грязных трактирах и начался русский социализм и русская революция. И Достоевский предвидел, к чему эти разговоры должны привести. «Шигалев смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то, чтобы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно так этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого». Все русские революционеры максималистского типа смотрят так, как смотрел Шигалев. Это взгляд – апокалиптика и нигилиста, отрицающего путь истории, труд культуры, поднимающейся по ступеням. Нигилистическая закваска, враждебная ценностям культуры и историческим святыням, лежит в основе русского социализма. Но в русском социализме, как в самом крайнем и предельном, будет легче вскрыть природу социализма, чем в более умеренном и культурном социализме европейском.