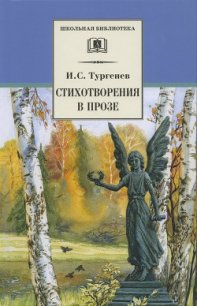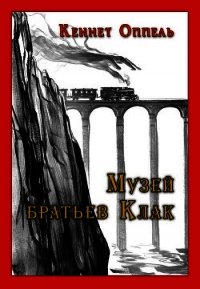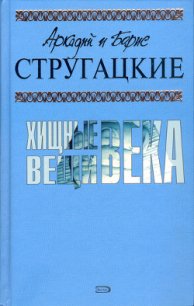Возвращённые метафизики: жизнеописания, эссе, стихотворения в прозе - Зорин Иван (читаемые книги читать онлайн бесплатно txt) 📗
Прокоп
Египетский отшельник Прокоп Бесплотный забрался в пустыню так далеко, что, разыскивая его, смерть заблудилась. Это дало ему возможность увидеть сто зим и сто вёсен, так что Македонский и Цезарь в сравнении с ним казались детьми. «История делается мальчишками, - рассуждал он в землянке, которую выкопал ещё до того, как волосы коснулись пят. - И потому она -история безумств». Прокоп был так стар, что время уже не сочилось из его глаз, которые, как солнце в горизонт, упёрлись в вечность. Он был слеп и целыми днями лежал на охапке соломы, укрывшись плащом своих волос, спасавших и от жары, и от холода. Прошлое уже не сдавливало настоящего, как тесный башмак, а будущее не открывалось - всё было известно наперёд: в полдень, выжигая пустыню, солнце раскалит песок, мимо сонно проплывёт караван бедуинов, один из верблюдов при этом споткнётся, и погонщик поднимет его палкой, а ночью, при багровой луне, в солончаки выползут ящерицы - лизать соль. И завтра повторит сегодня, как сегодня - вчера. А однажды по дымящимся верблюжьим лепёшкам, как по следам, его найдёт смерть.
«Рождение у всех одинаково, - учили Прокопа александрийские риторы, - а смерть разнит». Прокоп в это верил, прежде чем высох, как тень, прежде чем понял, что и смерть у всех одинакова.
Когда-то его окружали преданные ученики. Тряся бородой, он учил их правильно молиться и убеждал, что любовь женщины - поцелуй змеи. «Откуда было знать это девственнику?» - удивлялся он. Однако тогда он не сомневался. Теперь же, когда прошлое не вытекало слезами, а будущее не светилось в улыбке, он, наоборот, всё знал, но ни в чём не был уверен.
О Прокопе шла слава философа, молва приписывала ему умение расчесать бороду дождю и заплести косу ветру. Вторя агноитам, он утверждал, что Бог не властен над временем: прошлое Он знает по памяти, будущее - по догадкам, всеведение Его ограничивается настоящим. В речах, а Прокоп превозносил слово устное и презирал письменное, он старательно произносил имена существительные, ибо они шли от Бога, и избегал глаголов, которые принадлежат сатане. Но в его возрасте слава казалась детской погремушкой, а философия - ребяческой забавой.
- Жизнь черна, - зачерпывал он горсть земли, которая в скиту была такой чёрной, что, выливая сверху воду, он смотрелся, как в зеркало.
- Жизнь, как монета, которую находишь в пыли, -возражал Афанасий, его любимый ученик, - у каждого на дороге лежит своей стороной.
Бывало, Прокоп насыпал прошлое, как овёс по кулям. Вот он ребёнок, которого нянчит на коленях толстая кормилица, вот - юноша, безусый и бледный, для которого Платон дороже истины, и, наконец, сменив ямочки на морщины, - монах среди монахов, горстью орехов рассыпавшихся по бездорожью. «Разве тот, кто взобрался на столб, стал ближе к небу? - думал он об отшельниках, стремившихся превзойти друг друга. -Нет, для него мы одинаково ничтожны...» Он перебирал мысленно всех известных ему постников, схимников и подвижников, всех этих блаженных, благочинных, преподобных, гремевших веригами, обвешанных собачьими цепями, лязгавших собственными костями, с пожелтевшим, как пергамент, сердцем, и не находил их отличия от последнего козопаса. У порока, как у гидры, вместо отрубленной головы вырастают три - вот истина, которую выносишь из пустыни, когда устаёшь бороться, и наваливается одиночество, дырявое, как сито, в которое разливаешь дни и ночи.
И опять Прокоп вспоминал Афанасия, с которым делил стол и кров, питаясь акридами и манной. Вначале они клялись в вечной дружбе, а после вышагивали по землянке, угрюмые, как волки, помечая кашлем свою территорию. Он выгнал его на солнце, такое жаркое, что, когда тот мочился, моча не успевала собраться в лужу. Он обрёк его на смерть из-за незначительного расхождения в догматах. В знак своей правоты рядом с чахлым кустарником Прокоп воткнул корявый посох и стал ожидать, когда тот зацветёт. Но вместо чуда на него липла саранча и гадили птицы. «Бедный Афанасий! - глядя на них, думал Прокоп. - Ты не умел прикрывать ладонью уста». Тогда их споры казались ему важными и оправдывали жестокость. А теперь виделись пустыми, как выеденное яйцо. Он понимал, что люди не умеют ни любить, ни ненавидеть.
После Афанасия Прокоп жил затворником по привычке, но числился праведником. И ему стало казаться, что он только часть сна, который видит кто-то. И этот кто-то - Афанасий. А однажды он сам увидел сон, в котором видел, как видит сон. И в этом новом сне опять видел сон. Как и в снах, следующих за ними. На мгновенье он узрел разом всю цепочку снов, бесконечную, как змея, ухватившая себя за хвост.
И от этого ослеп.
С тех пор он возненавидел свою плоть. Он уже бродил, не отбрасывая тени, был сыт, глотая пыль, а кружившие над ним мошки не набухали кровью.
Как-то, ощупывая пальцами, он пробовал читать Писание, но буквы гудели, как пчёлы, встревоженным ульем разлетаясь по страницам. Пытаясь разобрать их жужжанье, Прокоп напряг слух, как вдруг растрёпанные волосы собрались на сторону и шарахнулись прочь от виска. Воздух не шевелился, и Прокоп понял, что они испугались приближавшейся смерти. Небо свернулось овчинкой, на которой, опаляя ресницы, повисли клочьями и солнце, и луна.
И тут Прокоп услышал голос.
«Ты думаешь, что мудр, - узнал он Афанасия, - но до истины тебе, как муравью! Ты полагаешь, что много пожил, но для вечности - миг».
Загораживаясь прозрачными руками, Прокоп коснулся торчащего из земли посоха, и - о, диво! - тот расцвёл.
Оскалившись одной стороной лица, Прокоп умер.
Моше Бен Леви
Из средневекового Толедо до нашего времени он добрёл во фрагментах апокрифов и невнятице легенд. «Сны, как женщины, - будто бы учил он, - одни приходят в постель, свежие, как роса, и от них по пробуждении стучит сердце, другие являются, как старые, верные жёны. Они не сулят новизны, зато не грозят разочарованием».
«Можно всю жизнь провести с одним сном, - добавлял он, - а можно менять их, как сандалии, которые для каждой дороги - свои. Человек, не видящий снов, что бобыль. Как в женщинах замуровано наше семя, так и в снах - желание: от первого рождаются дети, от второго - мысли. Поэтому можно быть старше своих снов, но мудрее - никогда».
Свои крамольные сравнения раби подкреплял цитатами из Талмуда и Зогара.
«Различают сны-девственницы и сны-блудницы, -вещал он с крыльца синагоги, и было видно, как кровь подступает к его вискам. - Последние зовутся публичными снами, как гулящие женщины, они скачут из постели в постель, их видит множество людей, заплативших накануне общими впечатлениями. Вместе с потаскушками они съезжаются на места зрелищ, слетаясь стервятниками на объедки дневного пира».
Моше бен Леви складывал руки, зная, что у слов долгое эхо, но ещё дольше оно у молчания.
«Особые сны являются отшельникам, давшим обет безбрачия: бесполые, строго одетые, сухие, как палка».
Здесь он рассказывал о своём строгом, задрапированном в чёрное сне, который ему никак не удаётся разоблачить.
«Бесстыдные сны показывают всё, а скромные скрывают, - пояснял он. - Бывает и так: сон придёт робко и застенчиво, как юная дева, но станет неотвязным, как наскучившая любовница. А другой так и промелькнёт коротким свиданием на гостином дворе. Но от обоих останется сухость во рту».
Встречая благосклонность слушателей, Моше бен Леви углублял странные параллели.
«Женщин и сны роднит привычка властвовать. Не мы перебираем их - они нас. Точно солнце, переходящее изо дня в день, мы кочуем из сна в сон, и в каждом сне мы иные, как и с разными женщинами. Некоторые из них склоняют нас к любви, но большинство - насилуют.
Видеть чужие сны - всё равно, что спать с чужими жёнами. Из ревности сны могут внезапно уйти, но обычно возвращаются по первому оклику».
Затем раби долго распространялся об опасностях, подстерегающих в снах, об их обидчивости и мстительности, а когда замечал утомлённые глаза, обрывал речь одним и тем же.