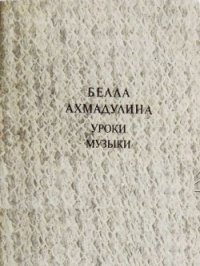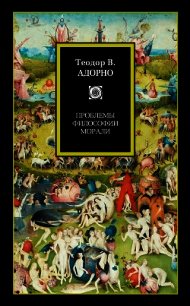Философия новой музыки - Адорно Теодор В. (читаем книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
Здесь-то и проявляется сомнительная сторона новейших триумфов полифонии. Единство двенадцатитоновых голосов, задаваемое посредством ряда, вероятно, противоречит глубинному импульсу новейшего контрапункта. То, что разные школы называют хорошим контрапунктом, а именно, ровные, самостоятельно-осмысленные голоса, не заглушающие главный голос, гармонически безукоризненный голосовой ход, умелое «замазывание» гетерогенных линий посредством мудро добавленной партии – все это дает ничтожный навар с идеи, когда, злоупотребляя ею, превращает ее в рецепты. Задачей контрапункта было не успешно распоряжаться добавочными голосами, а организовать музыку так, чтобы она с необходимостью нуждалась в каждом содержащемся в ней голосе и чтобы каждый голос и каждая нота точно выполняли свои функции в музыкальной текстуре. Ткань музыки должна быть устроена так, чтобы взаимоотношения голосов порождали ход всего произведения, а в конце концов – и форму. Из этого, а не из того, что Бах хорошо владел контрапунктом в традиционном смысле, складывается его подавляющее превосходство над всей последующей полифонической музыкой -дело не в линейности как таковой, а в ее интеграции в целое, в гармонию и форму. В этом «Искусство фуги» не имеет себе равных. Шёнберговская эмансипация контрапункта вновь берется за эту задачу. Правда, возникает вопрос, не упраздняет ли двенадцатитоновая техника принцип контрапункта его собственной тотальностью, возводя в абсолют контрапунктную идею интеграции. В двенадцатитоновой технике не осталось ничего, что отличалось бы от голосовой ткани – ни предзаданного cantus firmus, ни чистого веса гармонии. Но ведь сам контрапункт в западной музыке как раз можно считать выражением различия в измерениях. Он стремится преодолеть такое различие, придавая ему оформленный вид. При доведенной до конца сплошной организации контрапункт в узком смысле – как добавление одного самостоятельного голоса к другому -должен исчезнуть. Его право на существование состоит попросту в преодолении того, что в нем не растворяется и ему противится – он сочетается именно с такими явлениями. Там, где больше нет его превосходства над музыкальной «в себе сущей» материей, применительно к которой он себя оправдывал, он превращается в напрасное усилие и погибает в недифференцированном континууме. Он разделяет судьбу ритмики, контрастирующей со всем остальным, которая обозначает каждую тактовую долю в разных дополняющих друг друга голосах и тем самым переходит в ритмическую монотонность. В самых недавних произведениях Веберна последовательность среди прочего проявляется в том, что в них вырисовывается ликвидация контрапункта. Контрастные тоны, сочетаясь, образуют монодию.
Несоответствие любого повторения структуре додекафонической музыки – в том виде, как оно дает о себе знать при скрытом характере деталей имитаторики, – является основной трудностью двенадцатитоновой формы, формы в специфическом смысле учения о музыкальных формах, а не во всеобъемлющем эстетическом. Желание реконструировать большую форму, как бы не замечая экспрессионистскую критику эстетической тотальности [55], столь же сомнительно, как «интеграция» общества, в котором в неизменном виде продолжает существовать экономическая основа отчуждения, тогда как антагонизмы лишены прав на существование из-за насильственного подавления. Нечто в этом роде заложено в двенадцатитоновую технику как в целое. Разве что в ней – как, вероятно, и во всех феноменах культуры, которые в эпоху тотального планирования общественного базиса приобрели совершенно невиданную важность, поскольку они опровергают любое планирование, – антагонизмы разогнать не так легко, как в обществе, которое в новом искусстве не только отображается, но в то же время еще и подвергается «признанию», а тем самым и критике. Реконструкция большой формы в двенадцатитоновой технике сомнительна не только в качестве идеала. Сомнительна даже осуществимость такой реконструкции. Часто – причем, как правило, музыкальные ретрограды – замечают, что формы додекафонической композиции эклектично притягивают к себе «док-ритические» большие формы инструментальной музыки. Сонаты, рондо и вариации возникают в ней как в буквальном смысле, так и «по духу»: во многих случаях, как, например, в финале Третьего квартета, это происходит с безобидностью, в результате которой не только с судорожной наивностью забываются генетические импликации смысла этой музыки, но, к тому же, в частности, простота общего плана резко контрастирует со сложностью ритмической и контрапунктной фактуры. Непоследовательность бросается в глаза, и позднейшие инструментальные сочинения Шёнберга, в первую очередь, представляют собой попытку с ней справиться [56]. Однако же, то, что сама эта непоследовательность с необходимостью коренится в свойствах двенадцатитоновой музыки, замечают не с такой отчетливостью. То, что эта музыка не досягает до больших форм в силу собственной сущности, – не случайность, а имманентная месть забытой критической фазы. Построение поистине свободных форм, когда неповторимые свойства произведений допускается «пересказывать своими словами», невозможно из-за несвободы, постулируемой техникой рядов, а также из-за непрерывного появления одного и того же. Вот почему та непреложность, вследствие которой ритмы становятся тематическими и каждый раз наполняются разными фигурами ряда, уже несет с собой принуждение к симметрии. Когда бы ни появлялись упомянутые ритмические формулы, они всегда уведомляют о соответствующих формальных частях произведений, и именно эти соответствия цитируются как призраки докритических форм. Правда, всего лишь как призраки. Ибо двенадцатитоновая симметрия остается бессущностной и неглубокой. А это значит, что, хотя она и возникает в принудительном порядке, она ни на что не годна. Традиционные симметрии всякий раз основываются на гармонических отношениях симметрии, каковые им предстоит выразить или произвести. Смысл классической сонатной репризы неотделим от модуляционной схемы экспозиции и от гармонических отклонений при разработке темы: он служит тому, чтобы подкрепить основную тональность, всего лишь «постулируемую» в экспозиции, показав, что эта тональность возникла в результате именно того процесса, какой начался в экспозиции. Как бы там ни было, можно представить себе, что сонатная схема в свободной атональности – после устранения модуляционных оснований для соответствий -сохранит нечто от этого смысла, если именно в импульсивной жизни созвучий разовьются настолько мощные влечения и отталкивания, что утвердится идея «цели», а симметричное применение репризы воздаст должное собственной идее. Но в двенадцатитоновой технике об этом не может быть и речи. С другой стороны, при всех неутомимо проводимых ею комбинациях она не в состоянии оправдать и никакую архитектуроподобно-статическую симметрию доклассического типа. Очевидно, что додекафоническая техника настолько же настойчиво выдвигает проблему симметрии, насколько безжалостно отклоняет ее. Скорее всего, вопрос симметрии можно разрешить в пьесах вроде первой части Третьего квартета, которые точно так же отказываются от видимости формы и динамики, как и от ориентации на формы, чья симметрия отсылает к гармоническим отношениям, но подобные пьесы вместо этого оперируют совершенно жесткими, беспримесными, в известной мере геометрическими симметриями, не предполагающими обязательной системы отношений между формами и способствующими не постановке цели, а поддержанию однократного баланса. Как раз такие произведения больше всего приближаются к объективным возможностям двенадцатитоновой техники. Каждая их часть благодаря упрямо возникающей в ней фигуре восьмерки лишена даже и мысли о развитии и в то же время – вследствие противоположения симметричных, но сдвигаемых плоскостей – утверждает тот самый музыкальный кубизм, какой лишь намечается в рядоположенных комплексах Стравинского. Но Шёнберг на этом не остановился. Если все его oeuvre по пути от переворота к перевороту и из одной крайности в другую можно понимать как диалектический процесс, происходящий между моментами выразительности и конструктивности [57], то процесс этот не успокаивается, достигая новой вещественности. Поскольку реальный опыт эпохи Шёнберга должен был поколебать для него идеал объективного произведения искусства, в том числе и в позитивистском, лишенном чар обличье такого идеала, музыкальному гению композитора не удалось избежать зияющей пустоты интегрального сочинения. В последних его произведениях ставится вопрос о том, как конструкция может превратиться в выразительность без жалостливых уступок страдающей субъективности. И медленная часть Четвертого квартета – его экспозиция, ее двоякое продолжение, снятым речитативом и напоминающей песню замкнутой концовкой похожие на план той самой «Отрешенности», первой пьесы Шёнберга, где не указана тональность, пьесы, открывающей его экспрессионистскую фазу; и маршевый финал Скрипичного концерта обладают едва ли не сверхотчетливой выразительностью. Нет такого, кто не поддастся могуществу этой выразительности. Она оставляет частную субъективность далеко позади. Но даже могущество выразительности оказалось не в состоянии срастить перелом – да и как ему это сделать? Это произведения, потерпевшие великолепный провал. Не композитор пасует перед произведением, а произведению мешает история. Последние сочинения Шёнберга динамичны. А двенадцатитоновая техника несовместима с динамикой. Раз уж она препятствует движению от созвучия к созвучию, то она не терпит и движения в рамках целого. Раз уж она обесценивает понятия мелоса и темы, то она исключает и собственно динамические формальные категории: развитие, переходы от темы к теме, разработку темы. Если в молодости Шёнберг ощутил, что из главной темы Первой камерной симфонии невозможно извлечь никаких «продолжений» в традиционном смысле, то содержащийся в этом ощущении запрет остается в силе и для двенадцатитоновой техники. Всякий тон столь же хорош в ряду, как и любой другой; как же тогда можно «осуществлять переход», разве Шёнберг не стремился оторвать динамические категории формы от субстрата композиции? Каждый ряд представляет собой ряд в такой же степени, что и предыдущий, ни один ряд не больше и не меньше другого, и даже то, какая фигура ряда считается «основной», зависит от случайности. Что же должно развивать «развитие»? Каждый тон подвергается тематической разработке через отношения в ряду, и ни один не является «свободным»; различные части могут давать большее или меньшее количество комбинаций, но ни одна не в состоянии примкнуть к материалу плотнее, чем первое появление ряда. Тотальность тематической работы по преформированию материала превращает всякую зримую тематическую обработку самой композиции в тавтологию. Поэтому разработка темы в смысле строгости конструкции в конечном счете становится тавтологией, и Берг, пожалуй, понимал, отчего в начальном аллегретто Лирической сюиты, первого его двенадцатитонового произведения, разработка темы опущена [58]. Лишь в поздних произведениях Шёнберга, поверхностный план которых гораздо дальше от традиционных форм, чем его ранние додекафонические композиции, вопросы формы заостряются. Разумеется, Квинтет для духовых был сонатой, но «сконструированной» [59], до определенной степени коагулировавшей в двенадцатитоновую технику, и «динамические» формальные части этой сонаты выглядят словно приметы прошлого. В ранний период двенадцатитоновой техники, чаще всего – в опусах, названных сюитами, но также и в рондо Третьего квартета, Шёнберг глубокомысленно обыгрывал традиционные формы. Едва заметная дистанцированность, с которой они возникали, поддерживала их притязания и притязания материала в состоянии искусственного равновесия. А вот в поздних произведениях серьезность выразительности более не допускает решений такого рода. Поэтому композитор уже не обращался к буквальному воскрешению традиционных форм, но зато со всей серьезностью воспринял притязания традиционных форм на динамизм. Теперь сонаты уже не конструируются – но, при отказе от их схематических оболочек – реконструируются. Этому способствуют не просто соображения стиля, но еще и важнейшие композиционные основания. По сей день официальная теория музыки не утруждает себя определением понятия «продолжение» как формальной категории, хотя без противопоставления «события» и продолжения невозможно понять как раз большие формы не только традиционной, но и Шёнберговой музыки. С глубиной, мерой и убедительностью свойств продолжения сочетается качество, которое является решающим в отношении ценности произведений и даже целых типов формы. Великая музыка ощущается в моменты ее протекания, когда пьеса действительно превращается в композицию, когда она сдвигается с места благодаря собственной весомости и трансцендирует «здесь и теперь» полагания темы, от которой она отправляется. Если старая музыка выводила задачу, но, правда, и счастье мгновений ее протекания из одного лишь ритмического движения, то впоследствии идея мгновения превратилась в источник силы, из которого черпал свою мощь каждый такт Бетховена, а вопрос о каждом музыкальном мгновении был впервые в полной мере поставлен романтизмом, но романтики не смогли дать на него ответа. Истинное превосходство «больших форм» состоит в том, что лишь они в состоянии учредить понятие мгновения, когда музыка срастается с композицией. Песне такое понятие принципиально чуждо, и потому с точки зрения наиболее обязывающих критериев песни являются чем-то подчиненным. Они остаются имманентными собственному вступлению [60], тогда как великая музыка складывается через ликвидацию последнего. А это, в свою очередь, достигается ретроспективно, через порыв, заключающийся в продолжении. В такой способности вся сила Шёнберга. Поэтому темы продолжений, как, например, вступающая в Четвертом квартете в 25-м такте, и переходы, к примеру мелодия второй скрипки (такт 42 и след.), не проглядывают сквозь условные маски формы как нечто чужеродное. Продолжение и переход – их реальные стремления. Ведь и сама двенадцатитоновая техника, каковая не допускает динамической формы, прельщает таким соблазном. Невозможность находиться на одинаковом расстоянии от центра действительно в каждый момент предстает в ней как возможность формальной артикуляции. Если двенадцатитоновая техника и противится таким категориям, как тема, продолжение и опосредование, то все же она притягивает их к себе. То, что вся додекафоническая музыка распределяется по выразительным экспозициям рядов, подразделяет ее на основные и второстепенные события, как было и в традиционной. Ее членение напоминает отношения между темой и ее разработкой. Но тут начинается конфликт. Ибо очевидно, что специфические «черты» воскрешенных тем, которые разительно отличаются от намеренно обобщенного, почти безучастного ко всему характера более ранней двенадцатитоновой тематики, не возникли из додекафони-ческой техники сами по себе, а, скорее, были навязаны ей беспощадной волей композитора, его критической мыслью. И как раз необходимая поверхностность указанной соотнесенности находится в глубочайшей связи с тотальностью техники. Неумолимая замкнутость техники – плохая граница. Все, что выходит за ее пределы, все конститутивно новое – а именно здесь предмет страстного беспокойства поздних произведений Шёнберга – является предосудительным с точки зрения определенного многообразия техники. Двенадцатитоновая техника возникла из подлинно диалектического принципа вариации. В нем постулируется, что настойчивое проведение неизменно равного самому себе и его непрестанный анализ в композиции – а любая обработка мотива есть анализ, разделяющий данное на мельчайшие части, – неутомимо порождают новое. Через вариации музыкально заданное, «тема» в строжайшем понимании этого термина, трансцендирует само себя. Но когда двенадцатитоновая техника довела принцип вариации до тотальности, до абсолюта, в последнем движении понятия она упразднила этот принцип. Как только он становится тотальным, возможность музыкальной трансценденции исчезает; как только все в равной степени начинает варьировать, не остается «темы», и все без исключения, что происходит в музыке, определяется через перестановки в рамках ряда, а при всеобщности изменения ничто не изменяется. Все остается как было, и додекафоническая техника близка к бесцельно описательному, добетховенскому обличью вариации, к парафразе. Она останавливает общий ход истории европейской музыки, начиная с Гайдна, когда пути этой музыки теснейшим образом переплетались с путями немецкой философии той же эпохи. Но ведь она приводит и к застою в композиции как таковой. Даже понятие темы растворилось в ряду, и тему вряд ли можно избавить от господства ряда. Объективная программа двенадцатитоновой композиции состоит в том, чтобы надстраивать новое, все профили в пределах формы как второй слой после преформирования материала в рядах. Однако этого-то и не получается: в двенадцатитоновые конструкции новое попадает всякий раз случайно, по произволу и, по сути, вступает в антагонистические отношения с ними. Додекафоническая техника не оставляет выбора. Форма не остается в ней чисто имманентной, а новое не внедряется в нее без ущерба для нее самой. Следовательно, динамические свойства последних сочинений Шёнберга сами по себе не новы. Они берутся из некоего фонда. Путем абстрагирования они были получены из додвенадцати-тоновой музыки. А именно, чаще всего из той, что возникла раньше свободной атональности: в первой части Четвертого квартета они напоминают Первую Камерную симфонию. «Жест» этих тем, хотя и освобожденный от собственных материальных предпосылок, заимствован из «тем» последних тональных композиций Шёнберга, которые в то же время были последними, что еще допускали понятие темы. В этих жестах аллегорически выражается то, что в знаках, указывающих на характер исполнения, обозначается через синонимы, указывающие на одинаковую порывистость, – energico, impetuoso, amabile, [61] – но неосуществимо в тональной структуре – натиск и цель, образ взрыва. Парадокс такого метода заключается в том, что в картинах нового исподтишка протаскивается воздействие старого новыми средствами и что стальные механизмы двенадцатитоновой техники направлены на осуществление того, что некогда с большей свободой и в то же время необходимостью начиналось при распаде тональности. [62] Новая воля к выразительности обретает вознаграждение, когда выражает старое. Знаки, обозначающие характер исполнения, звучат подобно цитатам, и вдобавок в таких обозначениях есть тайная гордость за то, что это снова возможно, тогда как остается вопросом, возможно ли это вообще. Не нашлось арбитра, уладившего спор между отчужденной объективностью и ограниченной субъективностью, и истина этого спора – в его непримиримости. Однако мыслимо предположение, что несоразмерность выразительности и разрыв между выражением и конструкцией все-таки по-прежнему можно определить как дефект последней, как иррациональность в рациональной технике. Слепо следуя собственной автономии, техника предает выразительность и переносит ее к картинам воспоминаний о прошлом, где выразительность имеет в виду грезы о будущем. По сравнению с серьезностью этих грез конструктивизм двенадцатитоновой техники оказывается слишком неконструктивным. Он всего лишь распоряжается упорядочиванием моментов, но не раскрывает их. А вот новое, коего не допускает этот конструктивизм, представляет собой не что иное, как не удающееся ему примирение моментов.