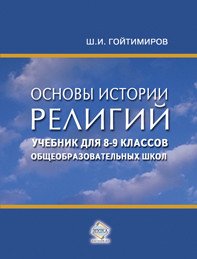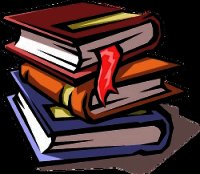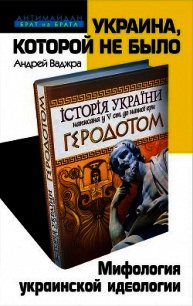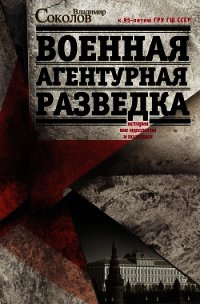Философия киников - Нахов Исай Михайлович (читать книги онлайн полностью .TXT) 📗
Единопоточный по существу подход к анализу идейной жизни античного общества, игнорирующий подлинные классовые антагонизмы, противоречит коренным положениям исторического материализма, в конечном счете объясняющего любые формы идеологической борьбы характером и способом производства [10]*. Хотя на поверхности проявлялись преимущественно политические противоречия внутри класса рабовладельцев, однако они не могли полностью затушевать борьбу рабов и рабовладельцев, принимавшую разнообразные формы и проходившую с меньшей или большей интенсивностью в зависимости от степени развития рабовладения. Протест рабов и близкой к ним бедноты сопровождался своеобразными теоретическими выступлениями — понятно, немногочисленными, незрелыми, превратными, порой примитивными, утопическими в силу их исторической бесперспективности, а иногда даже объективно реакционными (призыв «назад к природе», к установлению власти «рабских» царей, идея о загробном воздаянии, огульная критика культуры, науки, всеобщий нигилизм и т. п.). Но, как известно, лозунги нельзя оценивать абстрактно, вырывая их из конкретно-исторического контекста, не учитывая, что они могут использоваться в интересах разных классов и в разное время иметь неодинаковое социальное звучание. Даже утопические, ошибочные идеи, будоражащие общественное мнение и свидетельствующие о неудовлетворенности действительностью, выше мещанской успокоенности. Таких «ошибочных» идей в истории освободительных движений было немало, но их роль в революционизации сознания трудно отрицать.
В процессе классовой борьбы, постигая собственные интересы, свободная беднота и рабы вырабатывали элементы своей идеологии. Уже давно находят их в раннем христианстве, обследована с этой точки зрения поздняя языческая религия, обнаруживают их в памятниках фольклора (пословицы, апофтегмы, мифы, легенды), в литературе (басни, «роман»), эпитафиях и др. [11]* Таким образом, идеология рабов, вольноотпущенников, неимущих свободных производителей, несмотря на их угнетенное (хоть и по-разному) существование, не есть нечто неуловимое; вполне ощутимо она проявила себя в различных сферах общественного сознания древности. Почему же идеологию социальных низов ищут только на задворках общественной мысли — в кладбищенской тиши или в столь значимой, но иллюзорной сфере сознания, как религия? [12]* Ведь существует еще принципиальная возможность искать ее среди многочисленных философских учений древности, почему же не использовать эту возможность?
Конечно, наиболее угнетенный класс непосредственных производителей, античности — рабы, обладая стихийным и аморфным, но в закатную пору формации достаточно определенным классовым самосознанием (что убедительнее всего обнаруживалось в периоды восстаний), был не в состоянии создать стройное и последовательно-системное мировоззрение, передовую идеологию, завершающуюся положительной философской системой. Рабы представляли колоссальную негативную силу, в которой постоянно росли и крепли критические и разрушительные тенденции по отношению ко всем установлениям и завоеваниям рабовладельческой цивилизации, что порой вступало в противоречие с общечеловеческим прогрессом.
Мысли и эмоции угнетенных направлены прежде всего против угнетателей, поэтому психологическим лейтмотивом такого социально-«прямолинейно» мыслящего класса, как рабы, являлась всепоглощающая ненависть к поработителям, преобладавшая на всех фазах истории античности: среди рабов «должна была еще по большей части сохраняться живая, хотя внешне бессильная, ненависть против условий их жизни», — говорил Энгельс [13]*. Ленин считал классовую ненависть одной из движущих сил революции: «Эта ненависть представителя угнетенных и эксплуатируемых масс есть поистине „начало всякой премудрости", основа всякого социалистического и коммунистического движения и его успехов» [14]*. Все обуревавшие рабов чувства с особой силой прорывались в дни восстаний, когда оставался единственный выбор: свобода или смерть. Однако не рабам было суждено построить на земле новое справедливое общество. Подобно революционным крестьянам эпохи феодализма, они не являлись носителями исторически более прогрессивного способа производства. У рабов, как класса, не было будущего. Их историческая миссия заключалась в разрушении рабовладельческого строя и в расчистке пути для следующей формации, а не в созидании принципиально нового общества на той же экономической базе. С этой точки зрения, рабы были не в силах создать своей позитивной философии. Даже в ходе открытой классовой борьбы они не могли выработать четкой программы, ясно видеть перспективы и цели, хотя отлично сознавали необходимость перемен. Все пронизывал протест, проявляющийся в побуждениях и поступках, прямо противоположных ценностям и нормам, определявшим все социальное поведение рабовладельцев. Идеалы рабов были утопическими, практически недосягаемыми, формы идеологии — знакомо привычными, вожделенные политические порядки отдавали рутиной, ибо находились в прошлом, виделись как восстановление того, что было до порабощения, даже с «рабскими» царями, и только в редких случаях отдельные группы привилегированных рабов надеялись на «благодеяния» господ.
Правда, социальные утопии рабов и трудящихся свободных зиждились совсем на иных условиях, чем рабовладельческие, — они отрицали социальные привилегии, требовали свободы и равенства, постулировали необходимость всеобщего труда как блага, а не всеобщую праздность. Часто в этих утопиях наряду с мечтой об утраченной свободе и изобилии золотого века проповедовался аскетизм, так как вынужденное ограничение потребностей выдавалось за основную добродетель, якобы согласующуюся с природой и недоступную «прожорливым» богачам. Кроме того, в аскетизме беднота и рабы видели средство стать независимыми от произвола рабовладельцев. Показательно, что и при феодализме «коммунистические» утопии, связанные с революционными попытками низов, закономерно выдвигали в качестве непременного условия аскетические нормы жизни, демонстрируя тем свою слабость и незрелость. «Аскетически суровый, спартанский коммунизм был первой формой проявления нового учения», — замечает Энгельс, имея в виду социальные теории угнетенных классов феодального общества, обладающие известным типологическим сходством с аналогичными идеями античности [15]*.
Все отмеченные выше черты определили круг идей, занимавших умы выразителей дум и чаяний порабощенного класса. Высказать, выразить их могли не обязательно сами рабы или влачившие не менее жалкое существование свободные бедняки, а лишь немногие наиболее широко и прогрессивно мыслящие представители имущих классов, интеллигенция, или отдельные рабы и бедняки, по счастливой случайности попавшие в благоприятные условия. Но в этом случае они переставали быть просто рабами, а становились «идеологами», «теоретиками» своего класса. Возможность перехода отдельных лиц из лагеря «сильных мира» в лагерь «слабых» превращалась в действительность лишь в периоды кризиса, разложения старого общественного строя, когда зрели социальные сдвиги и происходила переоценка общепринятых ценностей, признанных житейских благ [16]*.
Господствующий класс (впрочем, как и угнетенный) в древности никогда не был единым. В критические же для формации времена он раскалывался настолько, что беднейшая его часть фактически оказывалась ближе к рабским низам, чем к имущим верхам. Уже Аристотель почти отождествляет неимущих граждан, живших своим трудом, с рабами (Политика, III, 1277bЗЗ—1278а34). В более поздние времена, в эпоху распада римской республики и империи, рабы, основная масса вольноотпущенников и свободная беднота, плебс часто выступали солидарно. В III в. н. э. знаменитый римский юрист Павел замечал, что «трудно отличить свободного от раба» (Дигесты, VIII, 1, 5). Независимо от личных побуждений идеологи свободной бедноты объективно отражали и выражали психологию, мысли и чаяния всех угнетенных античного мира, включая рабов и вольноотпущенников (наиболее известный пример — проповедники раннего христианства).