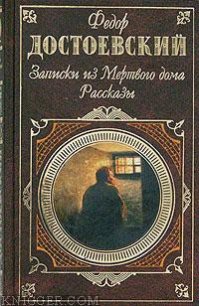Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей - Коллектив авторов (первая книга txt) 📗
Истина, о которой говорит герой «Сна», ближайшим образом есть некая картина, образ: «Но как мне не веровать: я видел истину, – не то, что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей» [123]. Истина, которую узнал и которую проповедует герой, есть не формула, не некая физико-математическая теория науки, и вообще не научная истина, а живой образ, который стоит перед его внутренним взором, который герой наш любит и который побуждает героя к проповеди. Последнее особенно важно: истина обладает здесь определенной энергетикой, она побуждает героя рассказывать о ней всем, распространять ее, проповедовать ее. В то же время здесь налицо и некоторая двойственность: с одной стороны, истина эта, «…которую биллион раз повторяли и читали…», есть старая известная максима: «…люби других как себя, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться» [124]. С другой – это есть, как несколько раз повторяет герой рассказа, «живой образ» истины: «…живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит» [125]. Этот живой образ истины действительно ответчив, он находится в жизненном диалоге с героем: «Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка, – вот уже первая ошибка! Но истина шепнула мне, что я лгу, и охранила меня и направила (жирный курсив мой. – В.К.)» [126]. Живой образ истины может шепнуть, подсказать и направить. Этот живой образ у Достоевского есть почти личность, и личность необыкновенная, знающая не только то, что есть, но и как надо. Может быть, это и есть Христос?.. Это ведь так близко к Живому Богу, поправляющему и направляющему человека через его совесть. Однако целое рассказа заставляет сомневаться в этом.
Вопрос об образе истины у героя естественно соотносится и с образом истины у людей золотого века. В IV разделе «Сна», где герой рассказывает о жизни в золотом веке, мы читаем: «Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной». Соприкосновение со вселенной, с Целым вселенной, большее или меньшее… Однако это соприкосновение только со вселенной, а не с Творцом этой вселенной. Скорее некоторое пантеистическое чувство стоит у жителей золотого века на месте веры в Бога. Аналогично, и в начале рассказа о Земле золотого века Достоевский пишет: «О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители…» [127] Земля, не оскверненная грехопадением… Но грех есть нарушение воли Божией. Иначе нравственное несовершенство существ вполне совместимо с другими, чем библейская, историями происхождения людей. Нравственное несовершенство, себялюбие, жадность, порочность могут толковаться тогда, например, как некоторая недоразвитость на пути эволюционного развития. Никакого греха в этом смысле нет, не существует, а есть только более или менее высокие ступени нравственного развития… [128] Грехопадение и грех предполагают некоторую заповедь от одного лица к другому, заповедь, которая была нарушена. Но в золотом веке другого лица, кроме самого счастливого человечества, нет. Стало быть, и употребление слова «грех» здесь условно, смысл его здесь несобственный.
Необходимо отметить, что, признаваясь, что это именно он «развратил» всех, герой рассказа не может конкретно объяснить, как это началось: «Как это могло совершиться – не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю» [129]. Это уклончивое, метафорическое описание грехопадения характерно отличается от точного и ясного описания Библии. Любопытно, что и описывая ступени грехопадения в золотом веке, Достоевский начинает со лжи: «Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи» [130]. Но ложь есть следствие грехопадения. В своем существе грехопадение Адама (Евы) есть своеволие: есть неверие Богу и нарушение Его заповеди. Только потом, по Библии, явилась ложь, когда Бог стал допрашивать Адама. По Достоевскому же, лестница грехопадения следующая: ложь – сладострастие – ревность – жестокость – убийство и т. д. Конечно, все это есть описание некоторой нравственной деградации, однако это не может являться грехопадением, поскольку изначально в том мире, который описывает писатель, нет Божественного законодателя, заповеди которого бы нарушались. Мы помним, конечно, что в начале своего сна герой, еще находясь в гробу, «воззвал к виновнику всего того, что с ним совершалось»; мы помним, также, что некоторое темное и скорбное существо переносило героя к Земле золотого века. Однако личность этого «виновника» остается непроявленной и отнюдь не создает теистической религиозной перспективы в рассказе [131]; тем более не делает этого и темное существо, которое исполняет явно служебную функцию. Религиозная перспектива «Сна смешного человека» остается двусмысленной.
12. Криптоантихрист. Не может не привлечь внимания завершение сна героя. После нравственного падения всего золотого века герой чувствует себя глубоко виновным, ибо это он принес в этот прекрасный мир все разлившееся в нем зло. «Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один, что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли» [132]. Что здесь происходит? Герой хочет быть распят на кресте за грехи человечества, причиной которых он-де является. Герой что, хочет быть новым Христом?.. Да, Христос был распят на кресте за грехи человечества, которые взял на себя. Но он не был причиной этих грехов. Во Христе, согласно церковному учению, соединились без смешения два естества: полнота Божественного и полнота человеческого. Причем в человеческом естестве Христа не было греха! Герой же сна есть по определению грешный человек, у которого есть только одно отличие от людей этого нового мира: он был перенесен в этот мир из другого и именно он был источником греха и растления в золотом веке. Но в библейском понимании источником растления был дьявол, Сатанаил. Поэтому естественно возникает гипотеза: не является ли духовной пружиной, внутренним движущим импульсом образа героя во сне именно Сатана, источник зла в творении? Мы подчеркиваем: именно во сне, – потому что пробудившийся герой как бы исцеляется от этой враждебной добру силы. Эта гипотеза подтверждается тем, что герой «Сна» приходит («прилетает») в золотой век… из могилы, то есть, вообще говоря, из ада. В этом трудно сомневаться именно потому, что в начале сна он совершает один из самых страшных в христианском понимании грехов для человека, кончает жизнь самоубийством. То наказание, которое достается ему в могиле, действительно ужасно своим бессмысленным издевательством. Это, как мы помним, выражает и сам герой: «Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое – безобразием и нелепостью дальнейшего бытия…» [133] Но именно здесь, в могиле, в аду, герой получает и своеобразную инициацию ада. Герой, как мы знаем, и так всегда был горд. Но тут перед вызовом этого вечного мучения живого погребения он демонстрирует воистину демоническую гордыню: «…знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение миллиона лет мученичества!..» [134] Тому презрению, которое испытывает к человеку и его мучениям владыка ада, герой противопоставляет презрение свое, молчаливое и упорное, хоть на «миллион лет»! Титаническое духовное усилие этого вызова как бы переплавляет всю душевную субстанцию нашего героя, осуществляя инициацию демонической гордыней… И твердыня ада поколебалась, «властитель всего происходящего» (в аду) ответил: героя забирает из могилы некое темное существо. В этом смысле становится и ясней основная характеристика существа, которое несет героя: темное существо, то есть служебный дух ада, которого герой «не любил» и к которому «даже чувствовал глубокое отвращение» [135]. Мы уже отмечали выше, как во все время полета герой постоянно ощущает присутствие своей гордости, и, когда он осознает, что опять зависим от кого-то, он восклицает: «И если надо быть снова…и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!» [136] «Сущность моего сердца, – пишет Достоевский, – оставалась со мною во всей глубине…» [137] Эта сущность есть безумная гордыня существа зависимого, в принципе тварного и в то же время желающего быть выше всего существующего… Эту инициацию получил герой в могиле, в аду, и именно с таким духовным «багажом» приближается он к планете золотого века. И, судя по кратким замечаниям писателя, эта инициация продолжается и во время полета: «Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проницало меня (полужирный курсив мой. – В.К.)» [138].
123
ПСС. Т. 25. С. 118.
124
Там же. С. 119.
125
Там же.
126
ПСС. Т. 25. С. 118.
127
Там же. С. 112.
128
Хотя и тогда встает серьезный вопрос, как понимать совершенствование, восходящее развитие в эволюции.
129
ПСС. Т. 25. С. 114.
130
Там же. С. 115.
131
Бахтин считает, что герой «Сна», воззвав из могилы «к виновнику всего того, что с ним совершалось», воззвал к творцу мира (Бахтин М.М. Проблемы. С. 263). Это может быть и так, и мы также отдали должное этой гипотезе (см. выше), но кто ему ответил – это другой вопрос, на который мы пытаемся ответить в следующем разделе. Впрочем, в то же время Бахтин пишет: «Но доминирует здесь в жанровом отношении античный тип мениппеи. И вообще, в «Сне смешного человека» господствует не христианский, а античный дух» (ПСС. Т. 25. С. 255).
132
ПСС. Т. 25. С. 117.
133
ПСС. Т. 25. С. 110.
134
Там же.
135
Там же.
136
Там же.
137
Там же.
138
ПСС. Т. 25. С. 111.