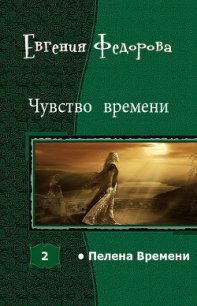Психологическая топология пути - Мамардашвили Мераб Константинович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Так вот, фактически оказалось, что мы имеем дело не с пифагоровой точкой, – целая область, сфера и мы – существа, живущие на этой поверхности. Но у нас есть прорастания, идущие и в глубь сферы. То, что мы создали включением, остается в сфере, – а с нашим сознанием, которое на поверхности сферы, мы это потеряли, не знаем. И соединиться могут точки на поверхности сферы – одно состояние сознания, в котором я полуузнал, с другим состоянием сознания, в котором я еще что-то полуузнал, – проходя пути внутри сферы, а не в движении по поверхности. Потому что движение по поверхности есть движение собирания только информацией и знанием. А там (как мы установили, туда ничего нельзя добавить), оказывается, есть какой-то нырок и в сферу. Тогда в сферу мы можем допускать те состояния, которые являются продуктом пройденного пути. Пути – на котором воссоединились сами полупути. То есть воссоединились составные части некоторого неделимого впечатления, и неделимо расположенного, тем не менее, на большой области, называемой нами сферой. И вот появляется живое состояние как результат пути. Состояние, скажем так, некоторого тела, занимающего это пространство. То есть мы вынуждены предполагать существование особого рода тел этого движения. И на путь этого предположения нас толкает и тот факт, что мы установили особого рода чувствования, которые не есть чувствования какого-либо органа чувств, а есть то, что Блейк называл расширенными и новыми чувствами. А чувствовать могут только тела. И это означает только одно: у нас вообще исчезает среда – как отделенная от наглядно выделенного нами индивида. Мы этого разделения (среды и индивида) уже не можем иметь, потому что до этого ввели закон пути, состоящего из двух полупутей (Konkav и Konvex), где это внутреннее и внешнее перемешалось. То есть мы не имеем, в строгом смысле слова, индивида, отделенного от среды некоторой непроницаемой поверхностью. (Мы таковы, так мы видим. Такое видение мы должны в себе придержать.) Так значит, мы потеряли четкое разделение среды и человека. А это означает, что мы должны о такого рода вещах мыслить, блокируя или придерживая традиционное различение между материей и сознанием, душой и телом, пространственным и непространственным, внешним и внутренним и т д. Мы должны их придерживать – то, о чем мы рассуждаем, находится вне применимости этих различений. Я говорю, что мы должны мыслить так. (Я не могу указать вам другого тела, чем то, которое вы видите.) Думать о некоторых свойствах нашего сознания, не принимая этих различений. Потому что, думая об этом реальном дискретном явлении – свойствах сознания, которые я описывал на материале Пруста, мы ничего не получим, если будем пользоваться многочисленными и многообразными терминами (мы всегда думаем о явлении посредством терминов) и помещать их в контекст мира.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Встреча с философским словом – всегда встреча с самим собой, труд и радость самооткровения. «Узнавание себя в мысли философов» (Мамардашвили) есть, в сущности, единственный неподдельный отклик на нее: узнать в ней не себя – «Это же Эммануил!» – значит, пройти мимо. Пройти мимо – значит, не узнать собственного имени.
Не обязательно выдавать себя за философа, чтобы признаться: наши «впечатления» от прочитанного и научные «оценки», наши пересказывания «своими словами» метафизических идей с разъяснениями того, что автор «имел в виду» (тут все слова надо ставить в кавычки), – все это стоит немногого. «Свои слова» здесь – чисто риторическая фигура, знак самозванства. Они должны быть доходчивыми (и от этого – доходными), но они не могут быть настоящими: в местах общего духовного пользования ни у своих слов. ни у своих глаз нет права голоса – здесь либо смотришь на мир чужими, готовыми к употреблению глазами, либо попросту не видишь истины, которая на всех одна. Понятно, отсюда кажется абсурдным правило Мамардашвили: «Читать в себе!» Но самого философа, «гражданина неизвестной Родины», это смущало мало. В мире Духа достанет и других – необщедоступных мест, где, возможно, никто не знает, кто ты и откуда, но зато и не спросят, если откроешься, что ты тем самым «имел в виду», или «хотел сказать». Здесь все слова и имена – собственные: и у Канта, и у Пруста, и даже у грузинского Стола. И здесь – и только здесь – Родину разум не проверяет на «оправданность» и «полноценность».
Конечно, кроме внешних оценок и толкований, есть и другая возможность для отклика – поделиться «личными воспоминаниями». Но едва ли им тут место: слишком непростым было отношение мастера к «этой Родине» (к России, к Грузии и к этому городу: «Люблю Питер – возможно, правда, потому, что он умирает»), как, впрочем, и к собственным публикациям, и слишком строго сам он следовал древнему правилу – «не плакать, не смеяться, но понимать…»
Итак, дело за малым: узнать себя в слове философа. Что говорит о нас – о каждом из нас – Мамардашвили, когда говорит о трансцендентальном синтезе, о феноменологической редукции. о метафизических «машинах времени», о Боге, о коррупции, о «сознании вслух» и т д.? О чем он в нас не перестает повторять, сколь бы ни разнились его сюжеты и сколь бы ни были изменчивыми его профессиональные пристрастия? Словом, в чем смысл философского события встречи с его письмом?
«Философия, – утверждает Мамардашвили, – есть способность отдать самому себе отчет в очевидности». Очевидное – непосредственное содержание мышления. Мы думаем, во всяком случае, то, что нам ясно, – ясно само собой, без всякой метафизики. Зачем же нужны тогда философы? Разве не убеждаемся мы сплошь и рядом, что думаем «так же», как они? Разве нас не радует, когда метафизические истины – «в одну реку не войти дважды» и т п. – при ближайшем рассмотрении сбрасывают с себя одежды бессмыслицы и обнаруживают в нас способность к пониманию – к бытию в большом времени, где нет места «собственности» на мысли и суемудрию?
Вопрос, однако, вот в чем: как возможно это «ближайшее рассмотрение», а значит, и приносимая им радость, т е. та именно радость, которая и есть знак встречи с самим собой – с исполненностью смысла, ради которого жив человек? Что может быть ближе, чем ближайшее – очевидное, сами собой, безо всякого усилия разумеющиеся вещи? «Ближе» – только само усилие. Оно и составляет сущность философского прорыва человека к самому себе, к восторгу полета над суетой повседневности, опыту собственного – никому не «принадлежащего» – мышления. Философия была бы никчемной, и Мамардашвили, не зная нас, ничего бы о нас не сказал, если бы не демонстрировал всем своим творчеством – «через труд свободы не перескочить».
Если философия позволяет мышлению состояться и если мысль живет лишь постольку, поскольку любима, то это не значит, что философский текст по преимуществу – «Ода к радости»
Оборотная сторона радости – страдание (и сострадание). Оборотная сторона философии – наука. Наука о «содержании мышления». Именно этим была она всегда для Мамардашвили, ученика Декарта и Канта. Это наука о сущем в мышлении – о том, о чем, почему и каким образом мы не можем не думать. отдаем ли себе в том отчет или нет. Но такая наука, очевидно, может состояться только в том случае, если на деле мы не знаем своих собственных мыслей. т е. у нас о них – ничуть, никак не скрытых, – есть только «мнение». На «неизвестной Родине», гражданином которой является всякий подлинный художник, между миром и творцом нет посредников: словами Ростиньяка, брошенными Парижу, – б deux maintenant – «теперь между нами». Так вот: именно теперь, «между нами» – когда мысль чиста и безупречна, когда душа, по формуле Платона, «сама с собой говорит», – именно теперь вдруг выясняется, что она лжет самой себе – уже постольку, поскольку полагает, что такое невозможно, что ей просто «ничего не остается», кроме как говорить самой себе Правду (ту самую, что, по Розанову, которого Мамардашвили необычайно ценил, – «выше Бога»). К сожалению, остается. Об этой страшной тайне вся философия Мамардашвили: о том, что «знать» свою духовную Родину может лишь не помнящий родства; о том, что умозрение и откровение, истинность и искренность онтологически неразрывны, и если разрыв между сущим на словах и сущим на деле в пределах мышления вообще может быть преодолен, то лишь при условии предваряющего всякую теорию эпистемологического усилия феноменологического синтеза бытия как откровения.