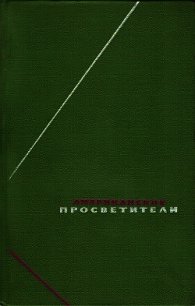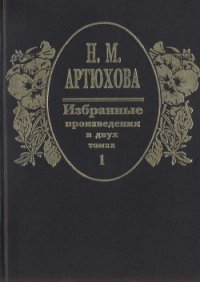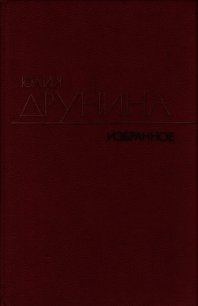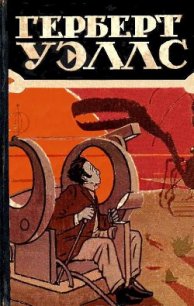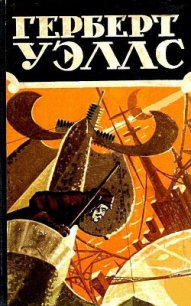Американские просветители. Избранные произведения в двух томах. Том 1 - Франклин Бенджамин (читать книги онлайн бесплатно серию книг .txt) 📗
Все это дела творца, к которым он относится одинаково. И никакие обстоятельства жизни или существования сами по себе не лучше или предпочтительнее: монарх не счастливее раба, нищий не несчастнее Креза. Предположим три отдельных предмета — А, В и С; А и В — живые существа, способные испытывать страдания и удовольствия, С — безжизненный кусок материи, нечувствительный к удовольствию или страданию. А получает десять степеней страдания, за которыми необходимо следует десять степеней удовольствия; В получает пятнадцать степеней страдания и соответственно равное число степеней удовольствия. С все время пребывает безразличным, и, поскольку оно не страдает от первого, оно не имеет и прав на второе. Что может быть более равным и справедливым, чем это? Когда ценности уравниваются, А не имеет основании жаловаться на то, что его доля удовольствия на пять степеней меньше, чем у В, так как его доля страдания равным образом на пять степеней меньше. Так же и В не имеет оснований хвастаться тем, что его удовольствие на пять степеней больше, чем у А, ибо и страдание его относительно больше. Они, стало быть, оба находятся на одном уровне с С, т. е. они не в проигрыше и не в выигрыше.
Могут здесь возразить, что даже обыденный опыт не подтверждает на деле такого равенства: «Одних мы видим неизменно бодрыми, оживленными, веселыми, в то время как другие постоянно мучаются от болезней и терпят неудачи, оставаясь, быть может, годами в нищете, несчастье или страдании, и умирают в конце концов без какой-либо видимости вознаграждения». Хотя в тех случаях, когда какое-нибудь положение представляют в качестве всеобщей истины, и нет необходимости показывать, как оно согласуется с личным состоянием человека, и действительно не следует этого требовать, однако, поскольку сказанное есть распространенное возражение, можно высказать по этому поводу несколько замечаний. Прежде всего отметим, что мы не можем надлежащим образом судить о том, хорошая или плохая судьба у других. Мы склонны воображать, что то, что доставляет нам большое неудовольствие или большое удовлетворение, производит такое же действие на других: мы считаем, например, несчастными тех, чьи средства существования зависят от милосердия, кто ходит в лохмотьях, с большим трудом находит пропитание, кого все презирают и осмеивают, и не задумываемся, что привычка делает все это легким и естественным и даже приятным. Когда мы видим изобилие, великолепие и веселое выражение лица, мы легко представляем себе сопутствующее им счастье, тогда как нередко дело обстоит совершенно иначе: постоянно печальный взгляд, сопровождаемый выражением неудовольствия, вовсе не безошибочный признак несчастья. Короче говоря, мы можем судить только по внешности, а она способна обманывать нас.
Некоторые напускают на себя веселый, жизнерадостный вид и на людях изображают полное довольство, хотя внутренняя боль, тайное страдание омрачают все их радости и уравновешивают их. Другие кажутся постоянно удрученными и полными горя, но даже сама печаль доставляет иногда удовольствие и слезы не всегда проливаются без наслаждения. Кроме того, некоторые испытывают удовлетворение от того, что их считают несчастными (так же как некоторые горды тем, что их считают униженными). Это окрашивает перед другими в ярчайшие тона их невзгоды и позволяет использовать все средства, чтобы заставить вас думать о них как о совершенно несчастных; тем больше удовольствия они испытывают от того, что их жалеют. Другие сохраняют облик и внешний вид опечаленности еще долго после того, как сам предмет вместе с его причиной уже не оказывают действия на них. Это привычка, которую они приобрели и от которой не могут отказаться. Таковы некоторые из многочисленных причин, почему мы не можем дать правильную оценку равенства счастья и несчастья других. А пока мы не в состоянии это сделать, факты не могут быть противопоставлены этой гипотезе. В самом деле, иногда мы склонны думать, что неудовольствие, которое мы испытываем, перевешивает наше удовольствие. Основанием для этого служит то, что душа не принимает во внимание удовольствия, оно проходит незамеченным, тогда как неудовольствие оставляет в памяти более длительное впечатление. Но предположим, что мы большую часть жизни провели в страдании и печали, предположим, что мы умираем в муках и больше ни о чем не думаем; но и это не уменьшает истинности того, что здесь было сказано, так как страдание, хотя оно и острое, вовсе не таково в последние моменты жизни; чувства вскоре притупляются и становятся неспособными передавать страдание душе столь сильно, как сначала. Воспринимая страдание, душа не может удерживать его долго, и увидеть непосредственное приближение покоя доставляет большое удовольствие. Это и создает равенство, хотя и должно последовать уничтожение, ибо количество удовольствия и страдания нельзя измерять их длительностью, как и количество материи — ее протяженностью. Кубический дюйм может содержать благодаря конденсации столько же материи, сколько может содержать ее в разреженном состоянии десять тысяч кубических футов; точно так же и один момент удовольствия может перевесить и возместить век страданий.
Только из-за незнания природы удовольствия и страдания древние язычники верили в небылицу относительно своего элизиума, состояния непрерывного довольства и счастья! В природе это совершенно невозможно! Разве удовольствие, которое приносит весна, не создается из-за неприятностей зимы? Разве удовольствие от хорошей погоды не вызвано непривлекательностью плохой? Несомненно. Если всегда была бы весна, если бы поля были всегда зелеными и цветущими, а погода постоянно ясной и прекрасной, удовольствие притупилось бы и исчезло. Оно перестало бы быть удовольствием для нас, если бы не вызывалось неудовольствием. Если философ смог бы в действительности осмотреть каждую звезду и планету с такой же легкостью и быстротой, с какой он может ныне обозреть свои идеи и переходить от одной к другой в своем воображении, то это было бы, полагаю, удовольствие, но только соразмерное желанию достичь этого, и притом не большее, чем неудовольствие, испытываемое из-за потребности в этом. Завершение длительной и трудной поездки доставляет огромное наслаждение, однако если бы мы могли предпринять путешествие на луну и обратно так же часто и с такой же легкостью, с какой мы ходим на рынок и возвращаемся с него, то удовлетворение было бы точно таким же.
Бестелесность души часто используется как доказательство ее бессмертия; но давайте примем во внимание, что хотя и следовало бы допустить, что она бестелесна и, стало быть, ее части не способны к отделению или разрушению под действием чего-то телесного, однако из опыта мы знаем, что она не неспособна к прекращению мышления, составляющего ее действие. Когда тело испытывает хоть небольшое недомогание, это оказывает очевидное влияние на душу, и правильное расположение органов необходимо для правильного способа мышления. Иногда в глубоком сне или при обмороке мы вообще перестаем мыслить. Душа от этого вовсе не исчезает, а существует все это время, хотя и не действует. Но вероятен ли такой случай и после смерти? Все наши идеи первоначально получаются посредством чувств и запечатлеваются в мозгу, число их возрастает от наблюдения и опыта, затем они становятся предметом деятельности души. Душа есть не более как сила или способность созерцать и сравнивать эти идеи, когда она их имеет; отсюда происходит разум. Но так как он может мыслить только идеи, он должен иметь их, прежде чем он вообще может мыслить. Поэтому, так же как он может существовать до того, как приобретает какую-нибудь идею, он может существовать до того, как он мыслит. Вспомнить какую-нибудь вещь — значит иметь ее отчетливо запечатленную в мозгу идею, к которой душа может при случае вернуться и которую она может созерцать. Забыть какую-нибудь вещь — значит иметь идею о ней, искаженную и разрушенную каким-то случаем или оттесненную и подвергшуюся воздействию великого множества других идей, так что душа не в состоянии найти ее следы и различить. Когда мы, таким образом, утратили идею вещи, мы не можем более думать, или перестаем думать об этой вещи. И так же как мы можем утратить идею одной вещи, мы можем утратить идею десяти, двадцати, сотни и т. д. и даже всех вещей, потому что они по природе своей непостоянны. И часто в жизни мы наблюдаем, что некоторые люди (случайно или из-за болезни, действующей на мозг) утрачивают большую часть своих идей и вспоминают очень мало о своих прежних действиях и обстоятельствах. После смерти и разрушения тела содержащиеся в мозгу идеи (только они составляют предмет деятельности души) равным образом необходимо разрушаются. Душа, хотя сама она и не подвержена разрушению, должна в таком случае по необходимости перестать мыслить или действовать, так как не остается ничего, о чем бы она могла думать или на что действовать. Она возвращается к своему первоначальному, лишенному сознания состоянию, в котором находилась до приобретения какой-либо идеи. А перестать мыслить означает почти то же, что перестать существовать.