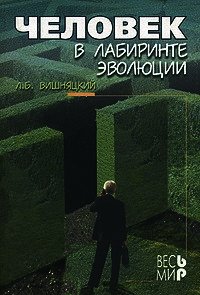Человек в лабиринте идентичностей - Свасьян Карен Араевич (электронные книги без регистрации .txt) 📗
24.
Двадцать третья ступень — изгнание из рая общего в ад единичного и индивидуального. Важно помнить: Ньютон и Ламарк именно потому блистают в аду, что в раю они неразличимы ни с чем, ни даже со своим кучером, которого они превосходят не намного больше, чем он свою лошадь. Переход на двадцать третью ступень — переход от «что» к «кто»: от логической повторяемости родового к ежемгновенным новым началам (эмерджентам) случайного и сингулярного. По сути, эта двадцать третья ступень — последняя: не потому, что дальше нее нет уже ничего, а потому, что дальше нее может быть только она сама; мир продолжается здесь в новой мета — биологической фазе, где родовое оказывается разорвавшейся на куски гранатой, а каждый кусок (hie homo singularis) логической ошибкой pars pro toto, или синхронной трансформацией внешних телесных восприятий в мысль, чувство и волю. Основной закон физики на этой ступени выражается, поэтому, не как закон сохранения вещества или энергии, а как закон сохранения пережитого, потому что местом свершения мира является уже не природа естествоиспытателей, а внутренние миры (душа!) миллионов и миллионов ничего не подозревающих о происходящем людей, которых сначала поместили в гнездовую иерархию таксонов (по соседству с обезьянами, крысами и свиньями), а потом заставили считать себя индивидуально свободными… Двадцать третья ступень — седьмой, самый длинный и самый трудный, день Творения. Теологам впору самим отдохнуть, после того как они спровадили на отдых своего Бога, доведшего творение до homo sapiens и увидевшего, что «это хорошо». Настоящий (нетеологический) Бог, имеющий мужество не просто быть, а становиться и преходить [100], теперь, по завершении своего монументального филогенеза, от одноклеточных до чуда центральной нервной системы, обретает себя уже не как быкоголовое или собакоголовое инкогнито, ни даже как Ветхий деньми, а как человек и — трагедия. Седьмой день — мир, как решение и риск, новое начало мира, как решения и риска: уже не прежнего зоологического риска очутиться в тупиковой ветви развития, а риска отчаяться в собственном — физически удавшемся, но метафизически негодном — творении и желать ему (себе) скорейшего конца. «Мир стоит сегодня не только перед опасностью погрузиться в ари — маническое, опасность мира сегодня в том, что Земля теряет свою миссию». [101] Эдуард фон Гартманн, могучий и трезвый ум auf verlorenem Posten, медитирует участь Бога, которому не нашлось больше места ни в философском, ни в естественнонаучном сознании. Бог — это бесконечная боль и печаль о не — удавшемся творении. Его цель — избавление от страдания, но поскольку страданием является всякое существование, то избавляться приходится от существования, переводя больное и ущербное бытие в более совершенное небытие. Мировой процесс и есть непрерывная борьба с болью Божьей, завершающаяся уничтожением мира. Поэтому, нравственно жить, быть нравственным, значит участвовать в уничтожении мира. Мир — «чешущаяся сыпь на абсолютном» или даже «болезненный нарывной пластырь, наложенный Всеединым Существом на самого себя, чтобы вывлечь внутреннюю боль наружу и устранить её в её последствиях». [102] Люди — члены мира. В них страдает Бог. Он сотворил их, чтобы расщепить на куски свою бесконечную боль. Долг людей, не умеющих любить Бога, — сострадать ему и быть с ним солидарным, ища его искупления. Не каждый в отдельности, для себя, добивается этого, а только все вместе. Высшим предательством по отношению к Богу является, поэтому, самоубийство отдельных людей. Бог сотворил людей, чтобы они своими поступками добивались его, а не своего эгоистического, искупления. Так как Бог — носитель боли в каждом человеке, самоубийца не то что нисколько не уменьшает боль Божью, напротив, он создает Богу новые трудности в поисках замены себя, дезертира, новым, более сознательным и более ответственным сотрудником. Даже массовое коллективное самоубийство всех обитателей земного шара не решило бы проблему, а лишь отбросило бы её назад до стадии возникновения человечества, после чего бессознательному пришлось бы повторно сотворять людей и начинать всю канитель заново. [103] Космос исчезнет сам, когда актуальная воля мира будет уничтожена вся без остатка. Когда люди перестанут, наконец, хотеть, для чего в их распоряжение и предоставлена история, как совокупное умственное и нравственное самосовершенствование человечества на пути к освобождению Бога от его абсурдной воли. «Реальное существование есть воплощение Божества, мировой процесс — история страстей воплощенного Бога и в то же время путь к искуплению во плоти Распятого; а нравственность — совокупная работа по сокращению этого пути страдания и искупления». [104] — Гартманновский Рагнарёк дополняется панацеей теолога Карла Барта, Бог которого, хоть и не уступает бессознательному в отчаянии, но действует уже не как философ — имманентист, а в лучших традициях ветхозаветной трансцендентности. Барт: [105] «Нам конец; наше дело отнято у нас из рук, как дурное дело […]; но так как у нас, кроме этого дурного дела, нет никакого другого, само существование наше утратило смысл, а с ним кончились и мы, никому не нужные, лишенные будущего. […] Не устранением грехов, а устранением самого грешника, субъекта греха, устанавливается порядок, и не подношением лекарства, не хирургическим вмешательством оказывается тут помощь, а умерщвлением пациента?» Бартовское: «Es ist aus mit uns» — эпохально, как эпохален же и гартманновский энергичный и исполненный ответственности пессимизм; оба свидетельства — как прямое практическое следствие из той новейшей разновидности антропологии, которая в упомянутой выше шелеровской инвентаризации занимает четвертое по счету место в ряду традиционных пяти. Жизнь, изобретшая дух, — болезнь, а человек — «инфантильная обезьяна», которую как раз хватает на то, чтобы просить своего творца — неудачника прикончить её. Эта антропология останется в силе, как наиболее аутентичная, до тех пор, пока не станет ясно, что в ней нет человека, а есть всё та же двадцать вторая ступень, только с замашками двадцать третьей. «Инфантильная обезьяна», как мера всех вещей, — но и как неизбежный практикум вопроса: «что есть человек?» Потому что если метафизически на вопрос «что» откликался всегда не человек, а логическое чучело человека, то в контексте физики чучелу пришлось конкретно самоопределиться и разоблачить себя как инфантильную обезьяну. Удивительно не то, что это стало возможно, удивительно, что об этом ничего не знают и не желают знать: ни ученые мужи, ни неученые. Мир поставил себя под девиз No problem и бодро следует слепым вождям слепых. Физики продолжают, как ни в чем не бывало, открывать очередные частицы и радовать клиентов высокими технологиями; философы, как ни в чем не бывало, продолжают переставлять слова, рассчитывая неожиданными сочетаниями слов скрыть отсутствие мыслей. Честнее (адекватнее) всего ведут себя, с позволения сказать, художники, вымазывающие себя дерьмом и баснословно дорого сбывающие дерьмовых себя на дерьмовых аукционах. Если бы можно было, в преддверии бартовского «умерщвления пациента», говорить всё еще о надежде, то, наверное, не иначе, как с оглядкой на старого собачьего друга, ищущего человека с фонарем средь бела дня, но уже не средствами пилатовско — аристотелевской навигации, а воочию и наяву. Во всяком случае, возможность найти человека не блокировалась бы уже механизмами логики, отбрасывающими поиск обратно в зоологическое, а зависела бы от случая и личной судьбы.
Conclusio
1.
Подводя итоги, будем держаться не только респективной линии сказанного, но и проспективной линии еще не сказанного. Что, прежде всего, бросается в глаза в истории познания (самопознания) человека, так это его неадекватность·, человек искал объяснить себя либо через божественное, либо через животное, перемещаясь соответственно из теологии в зоологию, чтобы, в конце концов, быть забракованным и в той и в другой: как неудавшийся бог и как деградировавший зверь. Очевидным образом причины лежали в его неспособности мыслить единичное и индивидуальное не обобщенно, а как есть·, индивидуальное, как есть, могло восприниматься им только через органы чувств, но, чтобы понять его, он должен был подводить его под соответствующее понятие, и вот в этом — то подведении оно переставало быть, как есть, потому что понятие индивидуального так же мало отвечало непосредственно воспринятому индивидуальному, как карта местности самой местности. Этот врожденный порок мышления, с большей или меньшей степенью адекватности отвечающий специфике мира естествознания, полностью обнаружил свою несостоятельность, едва соприкоснувшись с самим человеком, как объектом мышления. Если понимание вещей означало подведение их воспринятой единичности и особенности под общее понятие, то с пониманием человека всё обстояло с точностью до наоборот. Понять, значило здесь проделать обратное: уместить общее в единичном и особенном, потому что существенное в человеке, его сущность, в отличие от таковой других вещей, совпадала с его индивидуальным и терялась в его общем. Оставалось либо, держась старой логики, познавать себя в своем «природном», поддающемся обобщению, то есть, в том, что у человека было общего с миром минерального (костная и мускульная система), растительного (силы роста, вообще жизни) и животного (ощущения, инстинкты), жертвуя при этом «человеческим», как таковым (Я, индивидуальность, биографичность). Либо создавать, каждый для себя, новую логику единичного, как бы логику алогичного, немыслимость которой начиналась бы уже с того, что речь шла бы в ней не об одной логике, а о множестве их, сообразно каждому несравнимому и несводимому содержанию. Человек, понятый биологически, как род, — один для всех людей, подобно тому как перворастение или первоживотное у Гёте — одно для всех растений и животных. Человек собственно, индивидуум, личность, начинается там, где кончается родовое, общее в нем, потому что, как человек, носитель Я-сознания, он есть, каждый сам себе, собственный род и собственное понятие. Разница между логическим «человеком» Иваном и логической «собакой» Жучкой в том, что Жучку определяет «собака», а «человека» Иван, то есть, Жучка, конечно, более логична, чем Иван, который ставит логику на голову, чтобы самому стоять на ногах. Не то, чтобы логике, во избежание несостоятельности, оставалось быть собачьей, но, определенно, человеческому в ней не было места. В «человеке» оба полюса, общее и единичное, с такой же неотвратимостью предполагают друг друга, с какой они в то же время друг друга отрицают. Разумеется, Иван — это «человек», а Жучка — это «собака», только свою «собачьесть» Жучка имеет от Ивана, а Иван свою «человечность» неведомо от кого. Прежде он думал: от Бога; потом, «после смерти Бога», стал заполнять вакансию призраками, вроде «трансцендентального субъекта» или «совокупности общественных отношений», пока, наконец, совсем не запутался в лабиринте собственных идентичностей.