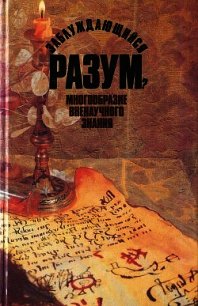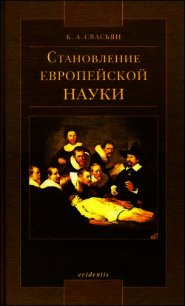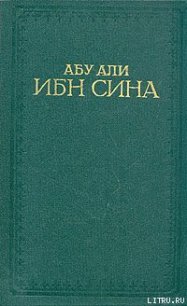Конец науки: Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки - Хорган Джон (читать книги бесплатно полностью txt) 📗
Как скептику избежать превращения в Карла Поппера, стучащего кулаком по столу и кричащего, что он — НЕ догматик? Или в Томаса Куна, пытающегося точно передать, что он думает, когда говорит о невозможности истинной связи? Есть только один путь. Нужно объединить — полностью принять — парадокс, противоречие, риторическое излишество. Следует признать скептицизм необходимым, но невозможным занятием. Следует стать Паулем Фейерабендом.
Первой и оказавшейся наиболее влиятельной книгой Фейерабенда является «Против методологии» (Against Method). Она была опубликована в 1975 году и переведена на 16 языков. Она доказывает, что философия не может обеспечить методологию и вообще разумное для науки, потому что в ней нет разумного для объяснений. Анализируя такие краеугольные камни, как суд над Галилеем в Ватикане и развитие квантовой механики, Фейерабенд хотел показать, что в науке нет логики; ученые создают научные теории и придерживаются их по весьма субъективным и даже иррациональным причинам. В соответствии с Фейерабендом, ученые могут и должны делать все необходимое для того, чтобы продвигаться вперед. Он суммировал свое антикредо фразой: «Пойдет всё». Однажды Фейерабенд поднял на смех критический рационализм Поппера как «горячий парок над позитивистской чашкой с чаем» [54]. Он соглашался с Куном по многим пунктам, в частности о несоизмеримости научных теорий, но доказывал, что наука редко является такой нормальной, как утверждал Кун. Фейерабенд также обвинял Куна — вполне справедливо — в обходе осложнений, вытекающих из его точки зрения; он замечал, к отчаянию Куна, что социально-политическая модель его научных изменений прекрасно подходит организованной преступности [55].
Склонность Фейерабенда к позерству привела его к оскорбительным укусам. Однажды он сравнил науку с магией вуду, колдовством и астрологией. Он защищал право религиозных фундаменталистов иметь собственную версию мироздания, которую преподавали бы в школах наравне с теорией эволюции Дарвина [56]. Статья о нем в справочнике «Кто есть кто в Америке» за 1991 год заканчивалась следующей фразой: «Моя жизнь — результат несчастных случаев, а не целей и принципов. Моя интеллектуальная работа составляет лишь незначительную ее часть. Любовь и личное понимание гораздо важнее. Ведущие интеллектуалы и их страсть к объективности убивают эти личные элементы. Они преступники, а не освободители человечества».
Дадаистская риторика Фейерабенда скрывала очень серьезный момент: человеческое стремление искать абсолютные истины, неважно, насколько благородные, часто заканчивается тиранией. Фейерабенд нападал на науку не потому, что искренне верил, что у нее не больше претензий на истину, чем у астрологии. Как раз наоборот. Фейерабенд атаковал науку потому, что понимал — и ужасался — ее силу, ее потенциал в поддержании разнообразия человеческой мысли и культуры. Он возражал против научной точности из моральных и политических, а не гносеологических причин.
В конце книги «Прощание с разумом» (Farewell to Reason1987) Фейерабенд раскрыл, насколько глубоким был его релятивизм. Он рассматривает положение, которое «привело в ярость многих читателей и разочаровало многих друзей, — отказ осудить даже самый экстремальный фашизм и предположение, что ему следует разрешить процветать». Этот момент был особо болезненным, потому что Фейерабенд служил в немецкой армии во время Второй мировой войны. Фейерабенд доказывал, что обвинять нацизм слишком легко, но именно высокоморальная уверенность в своей правоте и уверенность вообще сделали нацизм возможным.
«Я считаю, что Освенцим — это экстремальная манифестация состояния, которое все еще процветает среди нас. Оно проявляется в отношении к меньшинствам в индустриально развитых демократических странах; в образовании, включая обучение гуманитарной точке зрения, которое большей частью состоит из обращения прекрасных молодых людей в бесцветные и лицемерные копии их учителей; в ядерной угрозе, постоянном Увеличении количества и мощи смертоносного оружия и готовности некоторых так называемых патриотов к началу войны, в сравнении с которой Холокост кажется ничтожным. Оно показывает себя в уничтожении природы и „примитивных“ культур, и никто не думает о тех, для кого жизнь в результате теряет смысл; в огромном тщеславии наших интеллектуалов, их вере в то, что они точно знают, что нужно человечеству, и в их безжалостных усилиях переродить людей в собственное жалкое подобие; в инфантильной мании величия некоторых наших докторов, которые шантажируют своих пациентов страхом, калечат их, а затем преследуют, выставляя огромные счета; в отсутствии чувства у многих так называемых искателей истины, которые систематически мучают животных, изучают их мучения и получают награды за свою жестокость. С моей точки зрения, нет разницы между палачом Освенцима и этими „благодетелями человечества“» [57].
К тому времени, когда я попытался найти Фейерабенда (в 1992 году), он уже уволился из Калифорнийского университета в Беркли. Там никто не знал, где он; коллеги Фейерабенда уверяли меня, что мои попытки найти его успехом не увенчаются. В Беркли у него был телефон, позволявший ему звонить другим, но позвонить ему самому было нельзя. Он принимал приглашения на конференции, а потом не появлялся. Он приглашал по почте коллег посетить его, но, когда они приезжали и стучались в дверь его дома в горах, никто не открывал им.
Позднее, просматривая журнал «Айсис», посвященный истории и философии науки, я обнаружил кратенькую рецензию на сборник эссе, написанную Фейерабендом. Рецензия показала талант Фейерабенда к остротам. В ответ на клеветническое замечание автора о религии Фейерабенд отвечает: «Молитва не может оказаться эффективной в сравнении с небесной механикой, но она несомненно держит в руках некоторые секторы экономики» [58].
Я позвонил редактору «Айсис», чтобы спросить, не знает ли он, как можно связаться с Фейерабендом, и он дал мне адрес в Швейцарии, под Цюрихом. Я послал Фейерабенду льстивое письмо, поясняя, что хотел бы взять у него интервью. К моей радости, он ответил веселым, написанным от руки посланием, заявляя, что не возражает. Он живет в собственном доме в Швейцарии и иногда в доме своей жены в Риме. Фейерабенд дал мне номер телефона в Риме, а также вложил в конверт свою фотографию в переднике перед раковиной с горой грязной посуды. На этом фото он широко улыбается. Как он объяснил, фотография запечатлела его «за любимым занятием — мытьем посуды для моей жены в Риме». В середине октября я получил еще одно письмо от Фейерабенда: «Сообщаю вам, что буду (93 %) в Нью-Йорке с 25 октября по 1 ноября и что мы сможем встретиться для интервью. Я позвоню вам, как только приеду».
В результате я встретился с Фейерабендом в роскошной квартире на Пятой авеню холодным вечером за несколько дней до Хэллоуина. Квартира принадлежала бывшей студентке, которая разумно оставила философию в пользу торговли недвижимостью — и, очевидно, добилась некоторого успеха. Она встретила меня и проводила в кухню, где сидел Фейерабенд со стаканом красного вина. Он поднялся и, стоя несколько согнувшись, словно у него болела спина, поздоровался со мной. И только тогда я вспомнил, что Фейерабенд получил ранение в спину во время Второй мировой войны и был инвалидом.
Энергией и квадратным лицом Фейерабенд напоминал гнома. Во время нашей беседы он декламировал, ухмылялся, говорил вкрадчиво и шептал — в зависимости от точки зрения или темы — и одновременно размахивал руками, подобно дирижеру. Самоуничижение добавляло остроты его высокомерию. Он называл себя ленивым и болтуном. Когда я спросил о его позиции по какому-то вопросу, он сморщился.
— Нет у меня никакой позиции! — сказал он. — Если у тебя есть позиция, то она всегда оказывается спрятанной внутри. — И он изобразил работу невидимой отвертки, будто бы завинчивающей позицию внутрь. — У меня есть мнения, которые я энергично защищаю, а затем я понимаю, насколько они глупы, и отказываюсь от них.