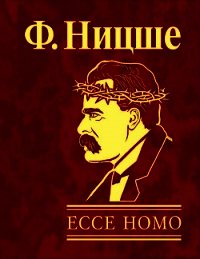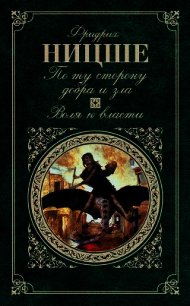Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии - Орбел Николай (книги серия книги читать бесплатно полностью txt) 📗
Совершенно закономерно, что вся жгучая ненависть «восставших рабов» обрушилась как раз на тысячелетние системы смягчения ресентимента и придания ему хронического характера – на религию, мораль и метафизику. И именно по этим параметрам идеологи фашизма распознали в Ницше своего предтечу. Они почувствовали, что этот мыслитель-динамит – взорвал тысячелетние запреты, и, конечно, этим не могли не воспользоваться самые униженные классы и их вожди. Они востребовали и узурпировали его высокий пафос сверхчеловеческого усилия, нацеленного на радикальное изменение жизни здесь и сейчас. Они увидели в нем законодателя новых лучезарных идеалов вместо изъеденных нигилизмом идолов.
В нем они уловили призыв к штурму пасмурного, моросящего дождем неба, за которым сверкает яркое солнце. В нем они почувствовали экстатическое утверждение героического мифа. Именно этот ницшеанский шквал бури и натиска питал тоталитарные революции XX в. Муссолини и Гитлер, действуя по его заветам, словно вернули в старую, обрюзгшую, пошлую и обывательскую Европу могучий воинственный дух, разбудили мужские, рыцарские инстинкты, наполнили ее города громогласным боевым кличем, зовущим к битвам и доблести. В практике фашизма зримо воплощалась ницшеанская критика современной ему «наивульгарнейшей эпохи» с ее обывательскими ценностями и единственной допустимой тягой – тягой к наживе и наслаждениям.
Не только широкие массы, но и самые великие умы и справа и слева услышали в этом кличе глубинный зов бытия, казалось, устремившегося к своему освобождению.
Я не могу согласиться ни с Ясперсом (утверждавшим, что Ницше лишь «снабдил фразеологическим материалом, который использовали национал-социалисты в своих бесчеловечных целях» [11]), ни с Г. Маркузе (считавшим, что они «заимствуют у Ницше только словарь и пафос» [12]): первый из демократических побуждений искренне пытался снять с Ницше лавры идейного вдохновителя нацизма, цель второго – спасти Ницше в интересах леворадикального проекта. Я полагаю, что в «Воле к власти» обрела язык воля к власти «восставших рабов», обрели язык их нестерпимое отчаяние и страстные чаяния. Эта книга – пусть и в завуалированной форме – давала массам программу восстания против социального и национального гнета и психической задавленности. Она настолько ярко и убедительно схватила суть национал-социалистической революции, что ее приняли за манифест национал-социализма, который явственно казался ницшеанским экспериментом.
Ощущению родства ницшеанства и фашизма способствовал и тот поразительный факт, насколько точно Ницше сумел почти за 50 лет до прихода Гитлера к власти предвидеть и описающую практику фашизма. От создания касты бесстрашных воинов (воплотившихся в дивизиях «Ваффен-СС»), умерщвления душевнобольных и евгенических практик до свертывания всякой демократии и форсировании воли к мировой власти – все эти ницшеанские прогнозы и рецепты нацисты выполняли с усердием верных учеников и последователей. Нельзя не согласиться с Альбером Камю: «Не было ли в его трудах чего-то такого, что могло бы быть использовано как призыв к окончательному убийству?.. Не могли ли убийцы найти в учении Ницше повод для своих действий? Приходится ответить – да.» [13] Доживи сумасшедший Ницше до этой «очищающей» прополки человечества, он сам бы наверняка стал первой жертвой нацизма. Но от «Воли к власти» веет такой бесстрашной жестокостью, что можно утверждать: даже знай Ницше о своем ужасающем уделе, он не отрекся бы от своих жутких призывов: этот человек настолько был «возмущен» собственными комплексами и слабостью, настолько ненавидел свой ресентимент, настолько тяготился собой как «биологической неудачей», что вся эта вакханалия жестокости, брызжущая со страниц «Воли к власти» (да и других работ), направленна и против него самого. Пафос этой брутальности по отношению к другим проистекает из жестокости к себе: лучше погибнуть, чем жить убогим.
«Воля к власти» и все позднее ницшеанство буквально пропитаны жестокостью: «Сострадание должно погибнуть», «падающего подтолкни», «слабые и неудачники должны погибнуть» – все это лозунги борьбы против ресентимента для тех, кто страдает, кто сострадает сам себе. Смысл этой жестокости объясняет Т. Адорно: «… призывы Ницше против сострадания не были просто абстрактным отрицанием этики сострадания Шопенгауэра: в известном смысле именно они и произвели на свет тоталитарное государство – третий рейх, – от одного вида которого Ницше, как и любой другой человек, содрогнулся бы. С другой стороны, следует сказать также и о том, что ницшеанская критика морали сострадания тем не менее, справедлива, потому что понятие сострадания подспудно оправдывает, санкционирует негативное состояние бессилия человека, к которому испытывают сострадание. То есть речь не идет о том, что жалкое состояние, которому сострадают, необходимо изменить; наоборот, это состояние, включенное, как это имеет место у Шопенгауэра, в мораль в качестве ее основы, гипостазируется и рассматривается как вечное. Таким образом, с полным правом можно утверждать, что сострадая какому-нибудь человеку, мы поступаем по отношению к этому человеку несправедливо, так как в этом сострадании он постоянно ощущает собственное бессилие, приходя к выводу, что сострадание – это сплошная видимость, фикция…
Однако в известной брутальности ницшеанской философии морали, которую я вовсе не склонен оправдывать (полагаю, что после всего, что я рассказал вам на этих лекциях, вы не заподозрите меня ни в чем подобном), содержится, по крайней мере, та истина, что в основанном на откровенном насилии и эксплуатации обществе это иррациональное, но в то же время открыто признающееся в своих преступлениях и потому, если угодно, «безгрешное насилие» гораздо менее порочно, нежели то, которое рационализирует себя как благо. Страшным злом насилие становится в тот момент, когда в заблуждении начинает трактовать себя как gladius dei, меч Божий» [14].
Добавлю в оправдание Ницше: у него совершенно отсутствует всякая радость насилия над слабыми. Жестокость Ницше сродни жестокости природы, она не садистична. Его удовлетворение от гибели людей, например, при землетрясении, не есть злорадство, но призыв к бесстрашию перед лицом катастрофы.
Сегодня после полувека доместикации Ницше наступает пора посмотреть бесстрашным взглядом на самые «ночные», ужасающие стороны ницшеанства.
Такой взгляд имели силы бросить самые смелые мыслители XX века. «Ницше предчувствовал близкое время, когда обычные границы, ограничивающие насилие, будут прорваны [15], – писал Жорж Батай, «Это отрицание классической морали – добавлял он, – присуще марксизму, ницшеанству и национал-социализму». Достаточно в нижеследующем фрагменте Ницше заменить ницшеанское выражение «новая партия жизни» на НСДАП или ВКП(б), чтобы согласиться с этой мыслью Батая: «Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач, более высокое воспитание человечества, и в том числе беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает возможным на земле тот преизбыток жизни, из которого должно снова вырасти дионисическое состояние. Я обещаю трагический век» [16]. Как видим, жестокость и насилие – плавильная печь, где выковывается воля к власти «нового человека», свободная от морали ресентимента.
Как ни неприятно это звучит для либерал-демократов, приходится тем не менее признать, что Ницше, безусловно, выступил как подстрекатель масс, толкнувший их (пусть и, как мы увидим дольше, против своей воли, но вполне осознавая это) к восстанию. Это восстание было воспринято многими левыми и правыми интеллектуалами как проект свободы, а сам Ницше – как его идейный спонсор, как глашатай тоталитарных движений XX в. Поэтому я утверждаю, что в глобальном культурно-историческом контексте Ницше представляет собой феномен пострашнее Гитлера [17]. Он «пострашнее» оттого, что раздвинул внутри человечества пространство, в котором возможно появление гитлеров. Совершенно естественно поэтому воля к власти и как книга, и как концепт превратились в сознании целых поколений первой половины XX в. в идеограмму фашизма. У А. Вебера были все основания признать «чрезвычайно опасное влияние на народ» этого произведения, «задуманного как указующее на тысячелетия» [18].