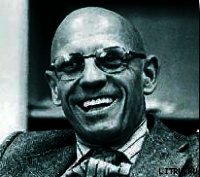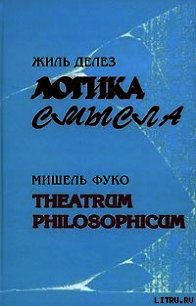История безумия в Классическую эпоху - Фуко Мишель (читать книги TXT) 📗
их хоровод слагался при соучастии всей природы. Формы Гойи возникают из ничего; у них нет ни фона, ни основы — выделяясь из однообразия ночи, они не несут никаких примет своего происхождения, конечного предела и природы. В “Снах” нет ни пейзажа, ни стен, ни декора — и в этом еще одно их отличие от “Капричос”; в ночи, где парят громадные летучие мыши в “Полете”, не светит ни одна звезда. Где дерево, на ветке которого болтают ведьмы? Быть может, эта ветка летит? На какой шабаш, на какую поляну? Ничто здесь не говорит о мире — ни о мире посюстороннем, ни о мире потустороннем. Конечно, это все тот же “Сон Разума”, который Гойя еще в 1797 г. сделал первой фигурой “универсального языка”; эта ночь — по-видимому, та же ночь классического неразумия, тройная ночь, принявшая в себя Ореста. Но в этой ночи человек сообщается с потаеннейшими своими глубинами, со своим предельным одиночеством. Пустыня босховского “Святого Антония” населена множеством живых существ; и несмотря на то, что пейзаж, окружающий “безумную Марго”, рожден воображением Босха, он все равно всецело проникнут человеческим языком. “Монах” Гойи, с его жарким зверем за спиной, который, положив ему лапы на плечи, дышит в ухо горячей пастью, — совершенно одинок: все свои тайны он хранит в себе. Явлена лишь одна, самая скрытая и в то же время самая дикая, самая свободная из сил: сила, рвущая на части тела в “Великом сне”, сила, разнузданно бьющая в глаза в “Буйном помешательстве”. Потому и сами лица тронуты распадом: перед нами уже не безумие “Капричос”, где маски были истиннее, чем истина человеческих фигур;
это безумие, таящееся под маской, безумие, вгрызающееся в лица, разъедающее их черты; здесь нет больше ни глаз, ни ртов — только взгляды, идущие ниоткуда и вперяющиеся в ничто (как в “Сборище ведьм”), либо вопли, рвущиеся из черных дыр (как в “Паломничестве св. Исидора”). Безумие в человеке сделалось возможностью уничтожить и человека и мир — и даже сами образы, отрицающие мир и искажающие человека. Оно лежит гораздо глубже, чем греза, гораздо глубже, чем кошмар звериного начала, — оно есть последнее прибежище, конец и начало всего сущего. И не потому, что оно предвестье, как это было в немецкой поэзии; но потому, что оно есть неопределенность хаоса и апокалипсиса: что такое “Идиот”, с воплем, вывихивая плечо, пытающийся вырваться из тюрьмы небытия, — рождение ли первого человека, первое ли его движение к свободе или же последняя конвульсия последнего из умирающих?
Быть может, безумие это, связующее и рвущее время, сворачивающее мир в кольцо ночи, безумие, столь чуждое современному ему опыту, передает тем, кто способен услышать и понять — Ницше и Арто, — едва различимые речи классического неразумия, речи небытия и ночного мрака, — но усиливая их, доводя до вопля и буйного неистовства? И быть может, именно оно впервые наделяет их неким выражением, дает им право гражданства и известную власть над западной культурой — власть, отправляясь от которой становятся возможны все опровержения ее, и тотальное опровержение? Быть может, оно возвращает им всю их дикую первобытность?
Спокойный, терпеливый язык Сада также подхватывает последние слова неразумия, также несет их в будущее, также наделяет отдаленным во времени смыслом. Между ломаным рисунком Гойи и прямой линией слов, непрерывно длящейся от первого тома “Жюстины” вплоть до десятого тома “Жюльетты”, безусловно, нет ничего общего, — кроме какого-то неопределенного течения, которое направлено против хода современной ему поэзии, к своим истокам, и которое, иссушая их, вновь обнажает тайну небытия неразумия.
На первый взгляд кажется, что в замке, где запирается герой Сада, в монастырях, лесах и подземельях, где длится бесконечная агония его жертв, природа может развернуться во всей своей полноте и нестесненной свободе. Здесь человек обретает забытую, хоть и вполне очевидную истину: нет желаний противоестественных, ибо все они заложены в человеке самой природой и она же внушила их ему на великом уроке жизни и смерти, который без устали твердит мир. Безумное желание, бессмысленные убийства, самые неразумные страсти — все это мудрость и разум, поскольку все они принадлежат природе. В замке убийств оживает все то, что было подавлено в человеке моралью и религией, дурным устройством общества. Здесь человек наконец-то предоставлен своей природе; или, вернее, человек здесь, следуя этическим нормам этой странной изоляции, должен неукоснительно хранить верность природе: перед ним стоит четкая и неисчерпаемая задача — объять ее всю: “Не познав все, ты не познаешь ничего; и если робость помешает тебе идти до конца, природа ускользнет от тебя навеки”27. И наоборот: если человек уязвит или извратит природу, то именно человеку дано поправить зло в расчетливой, всепобеждающей мести: “Природа повелела, чтобы все мы рождались равными; и если судьбе угодно расстроить план общих ее законов, то именно мы должны исправить прихотливые ее ошибки и умело покончить с узурпацией прав сильнейшими”28. Неспешное отмщение также принадлежит природе, как и бесстыдное желание. Все, что изобретает людское безумие, есть природа: природа явленная или восстановленная в своих правах.
Но для мысли Сада это всего лишь начальный момент, отправная точка: ироническое, рациональное и поэтическое самооправдание, грандиозная пародия на Руссо. Показывая несостоятельность современной философии со всей ее болтовней о человеке и природе, доводя ее до абсурда, Сад приходит к истинным решениям: решениям, каждое из которых будет разрывом с природой, уничтожением связи человека с его природным бытием29. Если рассматривать знаменитое “Общество друзей преступления” и проект конституции для Швеции сами по себе, не учитывая их хлестких аналогий с “Общественным договором” и с конституциями, разработанными для Польши и Корсики, от них останется лишь одно: жесткая, самодовлеющая субъективность, отрицающая всякую естественную свободу и всякое естественное равенство, — возможность бесконтрольного распоряжения человека человеком, не знающее меры насилие, неограниченное применение права на смерть; единственное, что связует все это общество, — это отказ от каких бы то ни было связей, оно — своего рода отпуск, предоставленный природе; от личностей, входящих в группу, требуется одно — чтобы они были едины не в смысле защиты некоего естественного способа существования, но в свободном осуществлении своего всевластия над природой, направленного против природы30. Отношение здесь прямо противоположно тому, которое было установлено Руссо: верховная власть не является больше ипостасью естественного существования; оно само есть лишь объект для властелина, то, что позволяет ему измерить свою тотальную свободу. Желание, доведенное до своего логического предела, лишь по видимости влечет за собой свое открытие природы. На самом деле у Сада нет возвращения к родной земле, нет надежды на то, что начальный отказ от всего социального незаметно, в силу диалектики природы, утверждающей себя через собственное отрицание, обернется благоустроенным порядком счастья. Еще у Гегеля, как и у философов XVIII в., одинокое безумие желания в конечном счете погружает человека в природный мир и тем самым немедленно переводит его в мир социальный; но у Сада оно лишь бросает его в пустоту, что стоит намного выше природы и господствует над нею, в абсолютное отсутствие соразмерности и общности, в не-существование вечно повторяющегося утоления. В этом случае ночь безумия безгранична; все то, что можно было принять за неистовую природу человека, было лишь бесконечностью не-природы.
Отсюда и проистекает великое однообразие Сада; по мере продвижения вперед декорации у него исчезают; устраняются любые неожиданности, случайности, обрываются патетические и драматические связи между отдельными сценами. В “Жюстине” еще существовала перипетия — переживаемое, а значит, новое событие; “Жюльетта” же целиком превращается в игру, самодостаточную, неизменно торжествующую, не ведающую негативного начала, совершенную настолько, что в своей новизне она может быть лишь подобием себя самой. Как и у Гойи, в этих тщательно выписанных “Снах” отсутствует фон. И все же, продвигаясь по этому пустому, лишенному каких-либо декораций ландшафту, который в равной степени может быть и кромешным ночным мраком, и абсолютным светом дня (у Сада нет тени), мы медленно приближаемся к концу: к смерти Жюстины. Ее невинность сделалась настолько утомительной, что вызывает желание поиздеваться. Нельзя сказать, что преступление не сумело истощить ее добродетель; дело обстоит как раз наоборот: природная добродетель довела ее до той точки, в которой оказались исчерпаны все возможные для нее способы быть объектом для преступления. И именно в этот момент, когда преступлению остается только одно — изгнать Жюстину из сферы своего всевластия (Жюльетта прогоняет сестру из замка Нуарсёя), именно тогда природа, которую столь долго подавляли, осмеивали, оскверняли31, в свою очередь целиком подчиняется тому, что вступало с нею в противоречие: в свою очередь она становится безумной и на миг, но только на миг, предстает в прежнем своем всесилии. Разразившаяся буря, молния, поразившая и испепелившая Жюстину, — это природа, сделавшаяся преступной субъективностью. Смерть Жюстины, по видимости ускользнувшая от безумного царствования Жюльетты, принадлежит ему в большей мере, чем любая другая; ночная буря, молния и гром ясно указывают на то, что природа разрывается надвое, что она достигает предела в разладе с самой собой и являет в золотой вспышке, прочертившей небо, то самовластие, которое есть она сама и нечто совсем иное, — самовластие сердца, впавшего в безумие и в одиночестве своем достигшего пределов мира, сердца, разорвавшего этот мир, обратившего его против самого себя и уничтожившего в тот самый момент, когда, восторжествовав над ним, получило право с ним отождествиться. Мгновенная вспышка огня, который природа добыла из самой себя, чтобы поразить Жюстину, есть то же, что и долгая жизнь Жюльетты — которая также исчезнет сама собой, не оставив ни следов, ни трупа: ничего, что позволило бы природе вновь вступить в свои права. Ничто неразумия, где навсегда умолк язык природы, превратилось в неистовство природы, обращенное против самой природы — вплоть до самовластного самоуничтожения32.