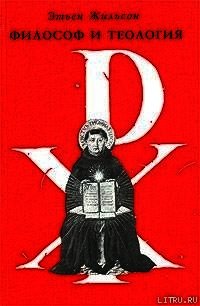Избранное: Христианская философия - Жильсон Этьен (читать полные книги онлайн бесплатно .txt, .fb2) 📗
Это важно отметить, так как здесь становится очевидным, что кьеркегоровский экзистенциализм субъекта не избегает общей необходимости полагать сущности. Он просто создает новые сущности, о которых можно сказать, что они самым решительным образом ограничиваются собственной сущностной чистотой. «Чистая вера» субъективного экзистенциализма есть одна из таких сущностей. История религиозной мысли не знает другой сущности, которая бы с большей категоричностью отвергала любую причастность. Дело в том, что для причастности необходима вовлеченность, а для веры это означало бы разрушение ее как веры. Вера, которая хочет остаться чистой, должна быть только верой, и ничем другим. Поэтому она исключает не только рациональную достоверность относительно своего объекта (с этим по необходимости согласна любая теология веры), но и малейшие следы какого бы то ни было «знания», примесь которого фатально уничтожает чистоту сущности веры. Кьеркегор вдоволь иронизирует над теологами, гегельянцами и прочими, кто культивировал в его время так называемую «ученую теологию». Эти эрудиты намеревались сперва с исторической и критической точки зрения «подтвердить свою веру», установив аутентичность и целостность канонических текстов Ветхого и Нового заветов, а значит, достоверность их авторов. Такая ученая филология вполне законна, если относиться к ней как к науке. Но речь идет не о ней, а о так называемой «ученой теологии», т. е. о теологии, которая надеется получить от научных изысканий какой-либо результат, значимый для веры. Но как раз это и невозможно! Во-первых, никакое историческое знание не способно достигнуть той абсолютной достоверности, без которой не существует веры, достойной своего имени [1061]. А во-вторых (и это главное), даже если установить без тени сомнения подлинность и достоверность священных книг, мы получим всего лишь объективное, т. е. научное знание, прямо противоположное той страстной и абсолютно личной решимости, которую подразумевает вера.
Вот почему проблема нисколько не меняет своей природы в зависимости от рода того знания, с помощью которого хотят сделать веру более достоверной или менее недостоверной в глазах неверующего. Пытаясь вести агрументацию на его собственной территории, мы сдаем ему в руки все козыри. Если же мы избегаем этой ошибки, то сам неверующий бессилен против веры. Если вера подтверждается с этой стороны, то дело не в том, являются ли священные книги боговдохновенными (этот вопрос относится к компетенции только веры), и не в их подлинности: даже если ни одна из них не подлинна, это не освобождает от ответственности за неверие. Ибо для того, чтобы мы обязаны были верить во Христа, достаточно того, что он жил. И наоборот: даже если бы мы подтвердили всеми мыслимыми доводами необходимость верить в него, мы были бы дальше от веры, чем когда-либо, ибо никакого доказательства тут не достаточно. А если бы и было такое доказательство, оно удалило бы нас от веры еще более, так как признать доказательство — значит отказаться верить. Неважно, имеет ли доказательство исторический или философский характер. Неважно и то, что, может быть, удастся сделать веру чуть более достоверной, весьма достоверной или бесконечно достоверной: неверующий, требуя доказательств, прекрасно знает, что их ему не дадут; а верующий, претендующий на доказательство, в конце концов сам начинает верить, что нашел его. Именно в этот момент он пропал: его собственная вера погружается во мрак безличной объективности.
Ничто не показывает яснее, как именно кьеркегоровская диалектика манипулирует сущностями. Ибо здесь речь идет лишь о двух из них, самых непримиримых: Доказательстве и Вере. Как примирить этих двух вечных непримиримых противников? «В пользу того, кто ведет доказательство? Вера не нуждается в нем; более того, она должна видеть в нем своего врага» [1062]. И это вполне справедливо. Но в то время как Кьеркегор думает, что ведет успешную борьбу в защиту прав существования, он сам незаметно для себя, в интересах своей диалектики, поднимается в небо платоновских идей. Он не замечает, что сущности, которыми он занимается с такой страстью, суть просто осуществленные абстракции. Убеждая, что доказательство исключает веру, а вера отрицает любое соприкосновение с доказательством, он забывает, что ни доказательство, ни вера не существуют. Существует же тот, кого Кьеркегор с иронией, обращенной в данном случае против него самого, называет несчастным церковным оратором и усердствующим в доказательствах, — «беднягой пастором». Назовем его еще проще: бедняга верующий. Кьеркегор обвиняет его в «смешении категорий»! Признаем, что комичен не только верующий: кто из существующих, если верит, не смешивает в единстве своей экзистенции эти две категории и вдобавок еще некоторые? Если камень делает вид, что помещается между двумя категориями — веры и доказательства, то бедняга верующий имеет перед ним одно преимущество, которому несоменнно должен принадлежать приоритет в экзистенциальном учении: а именно, он существует. И сам Кьеркегор, когда он оставляет свою диалектику, чтобы войти в собственную конкретную реальность, не более других ускользает от этого неумолимого закона метафизической нечистоты конечного существующего. Неважно, говорит он, что священные книги не принадлежат тем авторам, которым их приписывают: главное, что эти авторы жили и что Христос жил [1063]. А действительно ли он это знает? Если знает — а он должен знать, — какая мощная инъекция знания в самый корень веры! А если не знает, не придется ли признать, что даже если бы объективная истина заключалась в том, что Христос не существовал, для верующего это означало бы лишь большую свободу страстно верить в обетование вечного блаженства, самой субстанцией которого является личность Христа? Как мы увидим ниже, создается впечатление, что сам Кьеркегор отождествил христианскую веру со страстной заинтресованностью верующего в существовании Христа; но в этой страстной приверженности Богочеловеку не следует ли, по меньшей мере, знать, что человек в Нем существовал для того, чтобы верить, что он — Бог? Нельзя ни обосновать веру одной только историей, ни обойтись без нее, а история — это познание. Истина, менее диалектичная и в то же время более сложная, обнаруживается только в экзистенциальном единстве субъекта, который одновременно верит и знает: верит по причине того, что знает, и знает по причине того, во что верит. Ибо познаваемое простирается гораздо дальше того, что о нем можно знать. Смиреннейший из верующих знает нечто о том, во что верит; и ученейший из теологов, особенно если он святой, остается беднейшим из бедняг верующих. Как не вспомнить о полных безнадежности словах св. Фомы в «Сумме теологии»: «Это мне кажется соломой!» Доказательство исключает веру; но верующий — не категория, а человек. Человек же так устроен, что не может верить в то, о чем ничего не знает; а Христос таков, что мы не знаем о нем ничего, если не знаем, что прежде всего в него нужно верить. Мы знаем то, что он говорит, и верим, что его слово есть слово Божье.
Значение кьеркегоровской теологии мы не обсуждаем: этот вопрос принадлежит к компетенции теологов [1064]. Зато вопрос ее структуры значим для философа, потому что сам Кьеркегор связал решение проблемы существования с проблемой веры. Но такое решение выявляет глубинные тенденции кьеркегоровской мысли, ибо, что бы он сам ни думал об этом, оно подразумевает предварительное сведение конкретных данных проблемы к антиномии двух абстрактных терминов. Отсюда— непрестанные переходы границы, характерные для этой так называемой диалектики конкретного. Возможно ли познать христианство, не веря в него? Да. Значит, возможно в него верить, не зная его. По крайней мере, этого хочет диалектика неависимо от того, как обстоит дело в реальности. Должен ли существующий человек, «который, исследуя существование, спрашивает о том, что есть христианство», «посвятить всю свою жизнь его исследованию»? Нет, «ибо когда он, в таком случае, существовал бы в нем?» [1065]. Наивный наблюдатель реального, несомненно, ответил бы, что определенный — и к тому же хорошо известный — способ исследовать христианство заключается в том, чтобы жить в нем столько, сколько оно исследуется. Это способ inielligo ut credam и credo ut intelligam (понимаю, чтобы верить, и верю, чтобы понимать). В глазах Кьеркегора такой ответ является устаревшим потому, что рассмотрение как таковое исключает существование как таковое. Именно об этом он ведет речь. Возражать Кьеркегору, что вера, очищенная от всякого знания, невозможна, — значит нарываться на громовый ответ, что вера, не очищенная от всякого занния, есть противоречие в терминах, ибо она никоим образом не есть знание, но существование. Верить во Христа — значит быть христианином. В этом пункте антиномичные формулы Кьеркегора многочисленны и энергичны: «Вера требует отказаться от понимания»; «Христианство — противоположность умозрения». Не подлежит сомнению, что можно и, вероятно, должно называть христианство учением. Но это не философское учение, познаваемое спекулятивно, а такое учение, которое притязает быть реализованным в экзистенции, и сама эта реализация есть его постижение: «Если бы христианство было доктриной» в обычном смысле слова, «оно ео ipso не могло бы представлять собой антитезу умозрения» [1066]. Мы предоставляем теологам решать, сохраняется ли в такой постановке вопроса возможность теологии, которая составляла бы часть конкретного существования христианина. Для нас важно понять, возможно ли, исходя из этого, прийти к какой-нибудь онтологии. После Кьеркегора такие попытки предпринимались, и они весьма показательны (уже у самого Кьеркегора) в том, что касается истинной природы проблемы существования.