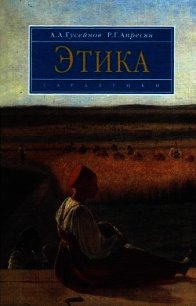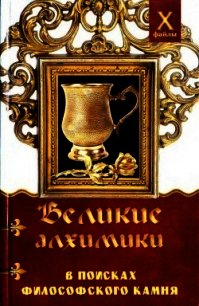Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней - Гусейнов Абдусалам (читать онлайн полную книгу .TXT) 📗
Странным образом я оказался единственным врачом среди интернированных. Поначалу директор лагеря запретил мне заниматься больными, считая это делом лагерного врача, функции которого выполнял старый сельский врач. Однако через несколько дней он нашел разумным использовать в этом качестве и меня.
Так я снова стал врачом. Остававшееся свободное время я посвящал «Культуре и этике», восстанавливая по памяти свои первые наброски на тот случай, если я не получу оригинал из Ламбарене.
Весной 1918 г. пришел приказ доставить нас с женой в лагерь Сант-Ремо в Южной Франции, предназначенный исключительно для эльзасцев. Старания директора отозвать приказ и сохранить тем самым для лагеря врача оказались напрасными. Мы были переведены в Сант-Ремо.
Вскоре, однако, это было в середине июля 1918 г., мы узнали о том, что будем обменены на пленных французов, находящихся в Германии, и уже в ближайшие дни через Швейцарию сможем вернуться в Эльзас.
На этот раз составленные в Гарансе и Сант-Ремо наброски «Культуры и этики» я взял с собой, после того, впрочем, как лагерный цензор проштемпелевал все их многочисленные страницы. Теперь я был спокоен: никто не отнимет их у меня.
В Страсбурге бургомистр предложил мне место ассистирующего врача в городском госпитале, которое я с радостью принял. Одновременно я стал проповедником осиротевшей церкви св. Николая, так как ее эльзасский пастор из-за своих слишком немецких убеждений был выслан в Германию.
Скудный досуг, который оставляли мне обе службы, я, естественно, отдавал новой записи «Культуры и этики». Она оказалась и больше и полней, чем та, которую я оставил в Ламбарене.
За несколько дней до рождества 1919 г. я получил телеграфное приглашение шведского архиепископа Натана Сёдерблюма, бывшего в то время и ректором университета в г. Упсала, прочитать ряд лекций по заказу «Фонда Олауса Петри». Таким образом, я что-то еще значил в Европе! До этого я смотрел на себя как на закатившийся под диван медный грош.
Архиепископу я предложил в качестве предмета лекций «Культуру и этику». Тот согласился.
В Упсале я впервые услышал отзвук на мысли, которые я вынашивал в себе много лет.
На последней лекции, резюмировавшей основные мысли благоговения перед жизнью, я был так взволнован, что с трудом мог говорить. Взволнованы были и слушатели из-за нового и более глубокого обоснования этики. Мои мысли встретили поддержку и у архиепископа Сёдерблюма. С той поры нас связывает большая дружба. Узнав, что на мне висят тяжелые долги, которые я сделал во время войны, он посоветовал мне попробовать выступить с лекциями и органными концертами в Швеции, где еще с довоенных времен осталось много денег, и дал рекомендации в различные города.
В течение нескольких недель я собрал столько денег, что мог не только расплатиться с долгами, но и оставить некоторую сумму на дальнейшее финансирование госпиталя.
Вскоре после возвращения в Страсбург я получил по почте пакет с первыми набросками «Культуры и этики», которые я доверил в Ламбарене миссионеру Форду. Так что для окончательной отработки текста я мог располагать и первой его редакцией.
Во время этого моего первого пребывания в Европе и после, когда представлялась возможность выступать с лекциями в университетах Оксфорда, Кембриджа, Копенгагена, Праги, мои лекции вызывали интерес и понимание. Я был вправе считать, что состоялся отчет о преимуществе этого элементарного обоснования морали перед другими.
В беседах, которые я вел об этике благоговения перед жизнью, мне часто приходилось слышать, что она, собственно, является повторением дела святого Франциска Ассизского (1182–1226). К такому заключению пришел и я сам. Еще со студенческих лет я был почитателем этого святого.
Он проповедовал братство людей с живыми тварями, как небесную весть. Для его слушателей она была божественной поэзией, и они не стремились посвятить себя опыту его осуществления на Земле.
В этике благоговения перед жизнью такое братство выступает как элементарное требование человеческого мышления, подлежащее обязательному осуществлению.
К началу 1923 г. текст «Культуры и этики» был готов для печати. Но как найти издателя? Ситуация в этом смысле сложилась неблагоприятная. В Германии тогда увлекались восхитительным, блестяще написанным произведением Шпенглера «Закат Европы». С точки зрения Шпенглера, европейская культура исторически возникает, исторически расцветает, исторически увядает и приходит к концу. Этот трагический взгляд соответствовал духу послевоенного времени. Шпенглер не исследовал, что собой представляет культура, а только рассматривал ее историческую судьбу.
Как мог я пробиться со своим обоснованием этики и культуры? И я малодушно отказался от переговоров с каким-либо издателем по поводу опубликования книги.
Эмма Мартини, вдова моего рано умершего друга, эльзасского проповедника, помогавшая мне с корреспонденцией, ехала в гости к подруге в Мюнхен и попросила меня передать ей рукопись с тем, чтобы попытаться найти издателя. В Мюнхене Эмма Мартини никого не знала; проходя однажды мимо магазина издателя Ц. Г. Бека, она зашла в него и попросила встречи с директором. В качестве его заместителя представился господин Альбер. На его вопрос о ее деле она ответила, что ищет издателя для моей книги. Он взял рукопись, перелистал первые страницы и сказал: «Мы возьмем эту рукопись без чтения. Альберт Швейцер не является для нас незнакомцем».
Случайным образом Бек оказался и издателем книги Шпенглера о культуре. Так я познакомился со Шпенглером. Вместо того чтобы соперничать, мы стали друзьями и в качестве таковых спорили о нашем понимании культуры.
«Культура и этика» вышла в свет в I923 г. Между мной и господином Альбером возникла глубокая дружба.
В феврале 1924 г. я вернулся в Ламбарене. Но и здесь я сохранял связь с миром. Так как я был уже не единственным врачом в моем все развивающемся госпитале, а двое или трое коллег работали рядом со мной, то я время от времени мог совершать короткие или продолжительные поездки по Европе, выступая в университетах с лекциями о культуре или письменным словом агитируя за нее.
Я имел удовольствие отметить, что она — этика благоговения перед жизнью — все больше и больше получает признание не только в Европе, но и во всем мире, особенно в Японии, Индии, Америке.
Во время второй мировой войны я почти десять лет (1939–1948) провел в Ламбарене, временами оставаясь единственным врачом в своем госпитале.
Я видел наступление этой войны и поэтому привел в движение все средства, коими располагал, чтобы создать большой запас медикаментов, ибо война вновь, я это знал, отрежет нас от мира. Но запаса хватило только до середины 1942 г., когда же он кончился, в Ламбарене неожиданно пришла посылка с медикаментами. Ее отправили неизвестные мне врачи из США. Это произошло благодаря тому, что во время войны сообщение между США и Экваториальной Африкой все-таки сохранялось.
В августе 1948 г. я снова приехал в Европу и отметил для себя, что война и ее мерзости заставили людей стать более восприимчивыми к идее благоговения перед жизнью.
В июле 1948 г. я находился в США, где должен был произнести торжественную речь на празднике в Аспе по случаю двухсотлетия со дня рождения Гете. Здесь я и познакомился с друзьями, чья посылка с медикаментами в 1942 г. помогла госпиталю в тяжелой ситуации.
При посещении городов и университетов я узнавал, что учение о благоговении перед жизнью имеет распространение и занимает души людей. Особенным уважением оно пользовалось в Бостоне.
В 1951 г. во время короткого пребывания в Европе меня посетила госпожа Элла Кризер, ректор одной из школ в Таписвере. Она пришла сказать, что в ее школе преподают учение о благоговении перед жизнью. Дети обнаруживают хорошее его понимание, а осознание ими, уже в этом возрасте, того, что быть добрым по отношению ко всем живым созданиям — элементарный человеческий долг, делает их одновременно и радостными и серьезными.