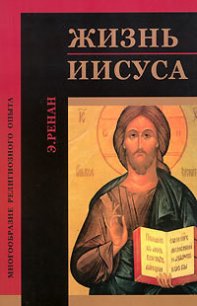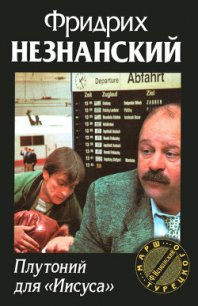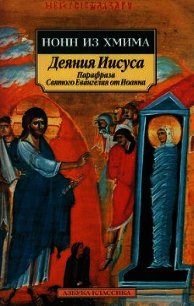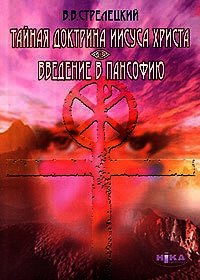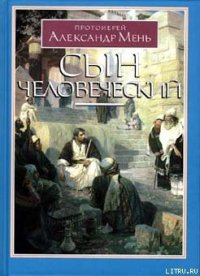Жизнь Иисуса - Штраус Давид Фридрих (серия книг TXT) 📗
Действительно, тому, кто в истории Лазаря видит не истинное чудо, остается лишь одно из двух: либо отстаивать правдивость рассказа, в ущерб чести и достоинству Иисуса (как делают вышеупомянутые толковники), либо отстаивать честь Иисуса и здравый смысл в ущерб правдивости рассказа. Нельзя не одобрить Эвальда за то, что он, хотя и не без колебаний и оговорок, предпочел последний выход. Историческим он признает не весь рассказ Иоанна вместе со всеми его деталями, а лишь основное, общее содержание его. Он говорит: "Не подлежит сомнению, что Лазарь был пробужден и выведен из гроба Христом (заметьте - Эвальд не говорит, что Лазарь был "воскрешен" Христом из мертвых), но в то же время следует признать, что в данном случае рассказ апостола проникнут особым духом и возвышенной идеей. Воспоминание о некогда случившемся воскресении умершего ему служило знамением и гарантией всеобщего воскресения мертвых, которое должно произойти при кончине мира и начале новой жизни, наступления которой ждали радостно все современники апостола. Отдельные детали происшествия, воскресавшие в его памяти, представлялись ему составными элементами этой высокой истины, и, охваченный всецело безграничною надеждой, он обращал взоры свои к прошлому, некогда им лично пережитому и виденному, и написал живо и наглядно все, что сохранилось в его памяти относительно знамения, внушавшего столь блаженную уверенность". Стало быть, апостол Иоанн, по мнению Эвальда, записал в преклонных летах все, что ему помнилось о воскрешении Лазаря, и записал он это с тою горячностью чувства и воображения, которую в нем возбуждала твердая надежда на предстоящее всеобщее воскрешение умерших Христом, и его повесть прошлого была (как выражается сам Эвальд) просветлена отблеском грядущей славы. Но замечание можно и должно понимать лишь в том смысле, что перспектива будущего отразилась лишь на форме Иоаннова рассказа, сделав изложение живым и патетическим, а содержание его рассказа по-прежнему осталось основанным на действительных воспоминаниях. Но в таком случае исторически достоверным в рассказе евангелиста приходится признать не только то, на что указывает сам Эвальд, что Лазарь был действительно "пробужден и выведен из гроба" Христом, или, как Эвальд выражается в другом месте, что Христос "спас заблудшего от гибели"; ибо это последнее выражение при всей своей двусмысленности и неопределенности показывает, что в истории чудесного воскрешения Лазаря Эвальд видит просто указание на то, что Лазарь заблуждался или погибал и был спасен от гибели Иисусом, когда последний приказал (неведомо зачем и почему) открыть гроб Лазаря и тем самым дал ему возможность очнуться от смертоносного самозабвения и воскреснуть к новой жизни. Стало быть, все то, что в поведении и речах Иисуса выходит за пределы такого естественного и, видимо, случайного факта, что обращает этот факт в чудесное событие, подтверждавшее божественное достоинство и происхождение Иисуса,- все это, по мнению Эвальда, было лишь придатком или измышлением самого евангелиста, писавшего рассказ под впечатлением чарующих надежд и ожиданий. Но что сказать об евангелисте, который даже и в преклонных летах так сильно искажал события исторического прошлого? Какую ценность имеют показания такого повествователя-евангелиста? И если к его Христу действительный Христос относился так, как, по словам Эвальда, исторически достоверная основа в рассказе о воскрешении Лазаря относится к тому, во что ее превратил евангелист Иоанн, то что же остается нам от Иоаннова Христа? Нет! Лучше уж совсем отбросить этот жалкий обрывок мнимоестественного, нелепого происшествия, который в качестве мнимоисторической основы евангельского рассказа обращает Иисуса в какого-то безумца, а самого евангелиста - в брехуна; лучше совсем отбросить эту нереальную, фантастическую "вещь в себе" и откровенно сознаться, что в данном случае мы имеем дело с чисто идеальным произведением евангелиста или поэмой, из которой мы ничего не узнаем о действительном Иисусе и которая лишь нам показывает, как отражалось в уме образованного христианина-александрийца то представление о высокой божественной природе Христа - Иисуса, которое уже начинало слагаться у иудео-христиан и, главным образом, культивировалось в кругу христиан-паулинистов.
78. ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ.
Иисус обычно проживал у моря Галилейского, на берегах которого протекли почти все главные события его жизни и общественного служения; поэтому весьма естественно, что многие рассказы о сотворенных Иисусом чудесах отнесены к окрестностям того же моря Галилейского. Одни рассказы такого рода можно назвать рассказами о рыбаках а другие - рассказами о моряках, ибо в одних говорится главным образом о рыболовстве, которым занимались некоторые ученики Иисуса, а в других - о самом море Галилейском и о плавании учеников по этому озеру-морю. Из рассказов первой категории мы отмечали уже выше рассказ Луки о чудесном лове рыбы в связи с фактом наименования Петра и других учеников Иисуса "ловцами человеков", а также рассказ автора последней (добавочной) главы в Евангелии от Иоанна о чудесном лове рыбы на море Тивериадском. Теперь нам остается рассмотреть из той же группы "морских сказаний" только рассказ о статире, найденном, по указанию Иисуса, Петром в пасти рыбы (Мф 17: 24-27). (388)
Этот рассказ, чрезвычайно характерный для Матфея, видимо, не допускает никаких толкований или объяснений: даже верующий в чудеса толковник не сумел бы объяснить, зачем нужно было Иисусу сотворить столь удивительное чудо - поимку рыбы, в пасти которой лежал статир, и как могло без нового, второго чуда случиться то, что эта рыба, хватаясь за крючок уды, не уронила изо рта статир? Некоторые объяснили это чудо в том смысле, что статир не был найден в пасти выуженной рыбы, а был просто выручен от продажи рыбы; но такому объяснению противоречит текст рассказа, повествующий, несомненным образом, о том, что статир фактически был найден в пасти рыбы. Другие толковники указывали на то, что в Матфеевом рассказе речь идет лишь о приказе Иисуса - пойти, бросить уду в море и извлечь статир из пасти первой попавшейся рыбы, но не говорится, что Петр фактически исполнил этот приказ и действительно нашел статир в пасти рыбы; поэтому в последнее время они стали утверждать, что упомянутый приказ Иисуса следует понимать иносказательно и приравнивать его к пословицам и поговоркам, вроде немецкой поговорки: die Morgenstunde hat Gold im Munde (дословно: "утренний час имеет во рту золото"). Но исполнение приказа и предсказание Иисуса - вещь сама собою разумеющаяся в евангелии. По-видимому, даже и мифически нельзя понять и объяснить данный рассказ о чуде, ибо он представляется не исполнением мессианских упований и не воплощением древнехристианских представлений, а произвольным порождением необузданной фантазии.
Однако, присмотревшись ближе к этому рассказу, мы увидим, что о чуде говорится в нем лишь под конец, а в начале и середине своей он напоминает собой те рассуждения и диспуты, какие в первых трех евангелиях встречаются нередко, в частности - рассказ о динарии (Мф. 22:15; Мк. 12:13; Лк. 20:20). В обоих случаях речь идет о подати: в одном рассказе - о подати для римского кесаря, причем возбуждается вопрос, следует ли иудеям платить эту подать, а в другом рассказе речь идет о подати на храм иудейский, и возбуждается вопрос, должны ли Иисус и ученики его платить этот церковный сбор. В первом случае на предложенный вопрос Иисус ответил утвердительно, велев подать себе монету, которой уплачивается подать кесарю (динарий), а во втором случае Иисус на заданный ему вопрос ответил отрицательно, но, чтобы не "соблазнять" или не озлоблять властей, он согласился уплатить требуемый церковный сбор монетой (статиром), чудесным образом извлеченной из пасти рыбы.
Спор по вопросу о том, не прегрешает ли народ божии против Бога, если кроме власти Бога над собой станет признавать еще власть римского кесаря, этот спор со времен Иуды Гавлонита продолжал постоянно волновать иудеев и потому возможно, что соответствующий вопрос был задан также Иисусу. Менее правдоподобно сообщение о том, будто бы уже при жизни Иисуса возбужден был вопрос об отношении Иисуса и учеников его к уплате сбора в пользу храма иудейского. Лишь значительно позднее, после смерти Иисуса, когда христианская религиозная община стала все более и более обособляться от общины иудейской, мог появиться и вопрос о том, обязаны ли христиане уплачивать сбор в пользу храма иудейского. Тогда-то, с христианской точки зрения, и мог показаться наиболее корректным тот ответ, что Мессия "больше храма" (Мф. 12; 6), а его последователи суть "род избранный, царственное священство, народ святой" (1 Пет. 2; 9), а потому и не обязаны уплачивать означенную храмовую подать, но что ради мира и спокойствия они все же соглашаются платить ее. Такой ответ, подобно многим иным идеям и положениям позднейшей эпохи, был впоследствии приписан самому Иисусу и сформулирован по трафарету, представленному в евангельском рассказе о динарии.