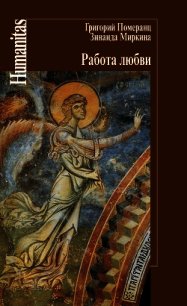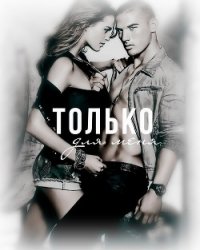Открытость бездне. Встречи с Достоевским - Померанц Григорий Соломонович (читать книги без регистрации TXT) 📗
Друбецкие, мать и сын, хитрят, добиваясь высокого положения в обществе и богатства, и так же мало думают, зачем это, как и старый князь Курагин; молодые Курагины, избавленные своим высоким положением от честолюбия, хитрят, добиваясь чувственных выгод. Все они по-своему цельны и счастливы (меньше других – Болконские, в жизни которых мысль все же приобрела некоторое значение): в патриархальном обществе самые парадоксальные образы поведения теряют случайный, личный характер, становятся чем-то наследственным, прочным, солидным – своего рода законом племени. Курагины по-своему так же гармоничны, как и Ростовы; между Анатолем и Наташей есть сходство непосредственной прелести (более тонкой и одухотворенной у Наташи, более грубой у Анатоля, но все же достаточной, чтобы Наташа влюбилась в него, и влюбилась более страстно и безрассудно, чем в Андрея, будившего в ней какие-то нераскрывшиеся высшие способности души и звавшего к чему-то неведомому и немного страшному, более волновавшего душу, но непосредственно, чувственно более слабому и меньше притягивающему к себе, чем Анатоль). Пьер несчастлив, пока не может прижиться в чуждой ему по складу семье Курагиных, и делается счастлив, попав в семью Ростовых.
Герои романа – не столько личности, которые могут вступать в какие угодно отношения (кроме Пьера, который ни к чему не привязан накрепко), а семьи, прочно привязанные корнями к своему месту и способные только сплетаться и расходиться отдельными своими ветвями-членами. Семьями, в широком смысле слова, являются также Павлоградский полк Николая Ростова, замкнутый кружок адъютантов Кутузова (и других генералов), развратных повес вокруг Долохова. Кроме Пьера (и отчасти лишь – Андрея), ни один человек не чувствует себя одиноким; каждому есть на кого опереться, в ком найти поддержку своим склонностям и вкусам, если семья в строгом смысле слова оставлена им.
Поэтому только исторические события придают роману некоторое единство действия; нет почти общего сюжета; сперва рассказывается об одной семье, потом о другой и снова о первой; единство системы образов создается только живописными контрастами между характерами, поведением, складом жизни Ростовых, Болконских, Курагиных, Друбецких, которые каждые по-своему достигают идеала в унаследованном ими или выбранном и усыновившем их роде человеческой деятельности (например, Долохов – в деятельности бретера и шулера), и каждый по-своему представляет необычайно богатый пример расцвета человеческих сил и способностей, когда человек делает то, что хочет (ибо все они хотят того, что они делают и что делается вокруг). На любого из них Толстой мог бы указать и спросить: что же выше создала, в смысле развития личности, Европа с ее культом ложных богов – индивидуализма и прогресса? Какой еще возможен прогресс после Наташи, полной прелести, счастья, любви и почти безграничных, еще не развернутых способностей, после Пьера, распрямившегося во весь свой огромный рост в сарае, куда его заперли, и захохотавшего над теми, кто думает, что можно запереть человеческую свободу? Недаром Толстой симпатизировал кастовой Индии. Одни герои Толстого богаче, другие беднее жизнью; Наташа сама вся светится и разливает вокруг любовь, радость, счастье; Вера, засушившая себя рассудком, живет отраженным светом и стремится только быть не хуже других образцовых людей. Но все по-своему живут, все по-своему забывают о ждущей их смерти и зле (для Толстого это синонимы):
В этой жизни так много настоящего, полного, захватывающего счастья, что холодный, высушивающий все рассудок, это зло, копошащееся где-то во дворцах и в штабах, остается, в конце концов, одиноким и бессильным, как мрачное и недовольное лицо Аракчеева не смогло разрушить веселья на балу в Вильне; возникает только жалость к несчастным братьям нашим, самих себя лишившим радости и счастья. Мы невольно смотрим на жизнь глазами счастливых людей, готовых на радостях обнять и расцеловать весь мир, и поэтому даже персонажи, целиком отдавшиеся «мнимым», рассудочным, враждебным всеобщему счастью целям, сеющие вокруг себя зло, не возмущают, – даже само зло не возмущает, не вызывает проклятий. Какая идиллия – сечение розгами солдата накануне Шенграбенского сражения, и как она непохожа на страшную картину, нарисованную в рассказе «После бала»! А ведь жизненное впечатление, стоявшее перед глазами Толстого, явно одно и то же: «молодой офицер, с выражением недоумения и страдания на лице, отошел от наказываемого, оглядываясь вопросительно на проезжавшего адъютанта»...
Отошел – и тут же забыл.
Николай Ростов прямо из госпиталя, где заживо гниют жертвы войны, попадает в Тильзит, на праздник примирения двух императоров. Контраст поразил его.
«Ростов долго стоял у угла, издалека глядя на пирующих. В уме его происходила мучительная работа, которую он никак не мог довести до конца. В душе его поднимались страшные сомнения. То ему вспоминался Денисов, со своим изменившимся выражением, со своей покорностью, и весь госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями. Ему так живо казалось, что он теперь чувствует этот больничный запах мертвого тела, что он оглядывался, чтобы понять, откуда мог происходить этот запах. То ему вспоминался этот самодовольный Бонапарте с своей белой ручкой, который был теперь император, которого любит и уважает император Александр.
Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди!» «...пить, – подхватил Николай. – Эй, ты! Еще бутылку! – крикнул он».
«Все мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему, – думает Пьер. – А вчера засекли кнутом бежавшего человека, и служитель того же закона любви и милосердия, священник, давал целовать солдату крест перед казнью»... Что же Пьер делает? «Пить вино для него становилось все больше физической и вместе с тем нравственной потребностью». «Только выпив бутылку или две вина, он смутно сознавал, что тот запутанный, страшный узел жизни, который ужасал его прежде, не так страшен, как ему казалось».
«Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами в прикрытии, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе занятие, для того чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. «Нет ни ничтожного, ни важного, все равно, – думал Пьер, – только бы не видеть ее, эту страшную ее...»
Рядовые герои Толстого отворачиваются от смерти, от зла, от страдания, которые стоят у них за спиной, и не хотят о них думать. По-своему это мудро. Истинная мудрость состоит, правда, не в слепоте, а, напротив, в более остром зрении, в понимании бесконечной глубины и длительности каждой минуты, каждой секунды жизни, если она полна любви. Но до какого-то момента, до какого-то порога возраста и судьбы результат выходит один и тот же.
Мудрый смотрит сквозь смерть и, как учит Спиноза, думает о жизни; немудрый боится смерти, но, по немудрости своей, легко забывается и тоже думает о жизни...
В мире Достоевского забыться невозможно. Вино только растравляет раны Мармеладова. И никакие другие забавы не заменяют вина, не дают возвращения к детской радости жизни. Главное, не хватает здоровой среды, не хватает ростовско-разумихинского начала (хотя отдельные характеры вроде Разумихина у Достоевского мелькают... но именно мелькают). Сама среда у Достоевского повредилась. Нет прокладки здоровой примитивности, разделяющей Пьеров от Андреев и не дающей им слишком часто сталкиваться и взрываться в философских спорах.
Роман Толстого – это роман страдающего гения, окруженного здоровой, нетронутой «проклятыми вопросами» примитивностью. Роман Достоевского – это роман гения, окруженного людьми, потерявшими свою примитивность, тронутыми теми же процессами мышления, которые мучают его («Слишком много сознания – это болезнь, – говорит подпольный человек, – и даже всякое сознание болезнь»). Это роман мыслителя, которому некуда уйти от своих мыслей, не с кем забыться: всюду, даже в Лебедеве или Смердякове, он находит свои собственные проклятые вопросы.