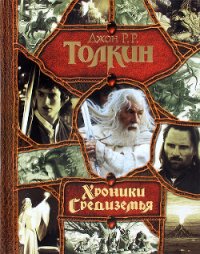Избранное: Социология музыки - Адорно Теодор В. (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Трудно поверить, действительно ли подобные элементы могут еще оказывать воздействие, но совершенно очевидно, что они одобряются идеологией музыки, и этого достаточно, чтобы в сфере господства этой идеологии люди соответственно реагировали, даже не веря ушам своим. Для них музыка приносит радость – и все тут, хотя развитое искусство на расстояние световых лет удалилось от выражения радости, которая стала реально недостижимой в самой действительности, так что уже герой "Dreimaderlhaus"[20] мог задаваться вопросом, бывает ли вообще радостная музыка. Если кто-то напевает, то он уже считается человеком довольным жизнью, ему пристало ходить с поднятой головой. Но ведь звук всегда был отрицанием печали – как немоты, и печаль всегда находила выход и выражение в нем. Примитивно-позитивное отношение к жизни, которое тысячу раз разбивала и разрушала музыка, отрицая его, снова всплывает на поверхность как функция музыки; не случайно потребляемая по преимуществу музыка сферы развлечений вся без исключения настроена на тон довольного жизнью человека; минор в ней – редкая приправа. Так управляют здесь архаическим механизмом, социализируя его. И если сама музыка опускается до наиболее бедного и ничтожного своего аспекта – бездумной радости, то она хочет, чтобы и люди, которые отождествляют себя с ней, уверовали в свою веселость.
Музыка беспредметна, ее нельзя однозначно отождествлять с какими-либо моментами внешнего мира, но у музыки как таковой в высшей степени определенное содержание, она членораздельна и как следствие этого вновь соизмерима с внешним миром, с общественной действительностью, хотя бы и очень опосредованно. Музыка – это язык, но не язык понятийный. Ее свойство и ее способность утешать и укрощать слепые мифические силы природы – действие, которое приписывали ей со времен рассказов об Орфее и Амфионе, – все это легло в основу теологической концепции музыки, идеи языка ангелов. Эта концепция продолжала жить долго, даже в эпоху развитого автономного искусства музыки, и многие из методов этой последней являются секуляризацией тех представлений. И если функция потребительской музыки ограничивается пустопорожним, жалким жизнеутверждением, не омраченным воспоминаниями о зле и смерти, жизнеутверждением на уровне брачных предложений в газетах, то эта функция завершает секуляризацию теологической концепции, одновременно превращая ее в циническую противоположность ей: сама земная жизнь, жизнь как она есть, приравнивается к жизни без горя и страданий; вдвойне безрадостная картина, ибо такое приравнивание – только хождение по кругу, где закрыть! все перспективы того, что было бы иным.
И как раз потому, что эта абсолютно жизнеутверждающая музыка издевается над всем тем, что однажды могло бы стать ее подлинной идеей, она столь низменна и позорна; позорна как ложь, как извращение того, что есть на самом деле, как дьявольская гримаса такой трансценденции, которая ничем не отличается от того, над чем силится подняться. Такова в принципе ее сегодняшняя функция – функция одного из разделов всеобщего рекламирования действительности, такой рекламы, потребность в которой тем больше, чем меньше просвещенные на этот счет люди в глубине своей души верят в позитивность существующего. Такая функция уготована музыке самой судьбой, поскольку музыку труднее уличить во лжи, чем грубую фальсификацию действительности в кинофильме или в рассказах из иллюстрированных еженедельников; идеология в музыке ускользает от разоблачения. Сознательная воля управляет сегодня распределением этой идеологии; такая идеология – объективное отражение общества, которое, дабы увековечить себя, не находит (и не может найти) ничего лучше тавтологии – все в порядке, говоря на его жаргоне.
Музыка как идеология выражается следующей метафорической формулой, которая лучший способ проиллюстрировать веселье находит в соотнесении его с музыкой: все небо в скрипках (Der Himmel hangt voll Geigen) [27]. Вот что стало с языком ангелов, с его неставшим и непреходящим платоновским бытием в себе: стимул для беспричинной радости тех, на кого он изливается.
Но веселость, которая включается и выключается вместе с музыкой, – это не просто веселость индивидов, а веселость нескольких или многих, она замещает голос целого общества, которое или отвергает индивида или сжимает его в своих тисках. Откуда идут звуки, источник музыки, – вот на что реагирует человек еще до всякого сознания: там что-то происходит, там жизнь. Чем меньше индивид чувствует, что живет своей жизнью, тем более счастлив он, предаваясь иллюзии присутствия жизни, убеждая себя в том, что другие живут. Шум и суета развлекательной музыки создает впечатление чего-то необычного, исключительного, праздничного. То самое "мы", которое во всякой многоголосной музыке полагается как априори ее внутреннего смысла, коллективная объективность самой вещи, становится здесь средством заманивания клиентуры. Как дети сбегаются, если на улице что-то случилось, так и эти регрессивные слушатели бегут вслед за музыкой; притягательная сила военной музыки, – что выходит за рамки всякого политического умонастроения, – ярчайшее свидетельство такой функции. Подобно этому в пустом баре гремит оркестрола, зазывая неискушенных людей, маня их иллюзорной картиной веселья, достигшего своего апогея.
Музыка в своей социальной функции сродни головокружительным обещаниям счастья, которые должны заменить это счастье. И даже ограничиваясь сферой бессознательного, музыка в своей функции дает только мнимое удовлетворение тому безличному Оно, к которому она обращается. Если сочинения Вагнера впервые в широких масштабах были призваны выполнять функцию шумного и головокружительного опьянения (на их примере Ницше открыл идеологию бессознательности в музыке)[21], если сочинения Вагнера еще целиком и полностью стояли под знаком пессимизма, отношение которого к обществу еще у Шопенгауэра было двойственным и который был недаром смягчен уже поздним Вагнером[22], то запланированный дурман потребительской музыки не имеет уже ничего общего с нирваной. Она, эта музыка, без конца, нудно повторяет свое: "Пей, братец, пей" – в лучшей традиции того алкогольного рая, где все обстоит самым наилучшим образом, стоит только избежать горя и печали, как если бы это зависело от желания и воли, которая только отрицает себя тем, что предписывает себе настроение. Ничто не поможет ей, кроме музыки! Ее функция скроена в соответствии с модусом поведения всех тех, с которыми никто не говорит, которые никому не нужны. Музыка приносит утешение благодаря простому плеоназму – благодаря тому, что нарушает молчание.
Далее, это скандальное положение вещей определяется как торжество: оно внушает представление о силе, мощи и величии. И если отождествить себя с ним, то это вознаградит за универсальный неуспех – жизненный закон каждого. Как бедные старушки плачут на чужих свадьбах, так и потребительская музыка – вечная чужая свадьба для всех. Кроме того, она вносит элемент дисциплины. Она выдает себя за непреодолимую силу – ей невозможно противостоять, она не допускает никакого иного поведения, кроме одного – участия в общем деле, она не терпит меланхоликов. Часто потребительская музыка уже заранее торжествует по поводу еще не одержанных побед – титры кинофильмов, инструментованные резкими красками, ведут себя как ярмарочные зазывалы: "Внимание, внимание, то, что вы увидите, будет таким великолепным, сияющим, красочным, как я; благодарите, аплодируйте, покупайте". Это – схема потребительской музыки даже тогда, когда обещания, по поводу которых раздаются победные клики, вообще не выполняются. Она рекламирует сама себя: ее функция чередуется с функцией рекламы. Она занимает место обещанной утопии. Окружая слушателей со всех сторон, погружая их в свою атмосферу, обволакивая их, – что соответствует сути акустического феномена, – она превращает их в участников одного процесса, вносит свой идеологический вклад в то дело, которое неустанно осуществляет современное общество в реальной действительности, – в дело интеграции.