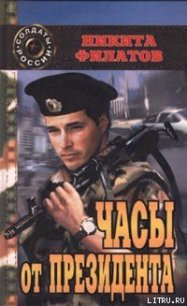САКУРОВ И ЯПОНСКАЯ ВИШНЯ САКУРА - Дейс Герман Алибабаевич (читать хорошую книгу .txt) 📗
«На монахов похожи», - подумал Константин Матвеевич, сравнивая этих из сна с типичными восточными лицами с теми, каких показывали в советском кино. Короче говоря, «сонные» монахи носили типичное православное монашеское одеяние, однако расшитое на спинах золотистыми драконами. Данные чудные монахи поставили зеркало возле храма, дивным образом образовавшегося на подходе к деревне, и кинулись молиться. Беззвучно (как в любом сне) зазвучали колокола, а у храма, замысловатого здания в виде пагоды с колокольней, начался крёстный ход. Участники хода подходили по очереди к зеркалу, лобызали его, а затем бежали подбирать разноцветные камни.
«Жаль, Петька Варфаламеев слинял из деревни, - подумал во сне Сакуров, уже прояснивший своё «сонное» положение, - а то объяснил бы, каким боком пагода с колокольней, крёстный ход вокруг зеркала и мужик в горностаевой мантии относятся к японской истории, религии или прочей культуре…»
В это время солнце поднялось выше, граница света и тьмы заметно отодвинулась от условного центра панорамы, а деревня как-то незаметно укрупнилась. При этом она, не утратив сказочности архитектуры и немыслимой палитры красок, приобрела более реальный вид, нежели в момент своего первоначального проявления. А Сакуров, дивясь на произведение не то рук человеческих, не то божественной воли, мог с чистой совестью признаться, что ничего подобного он в жизни своей не видел. Хотя, если бы его кто-нибудь спросил, а чего это он такого конкретного не видел, ни за что не ответил бы. Но продолжал млеть от благоприобретённого восторга, и сомнение на предмет его способности объяснить причины торжества чувств настроению не мешало.
«Да, хорошо здесь», – подумал балдеющий во сне бывший морской штурман и обратил внимание на новые цветы на Сакуре.
«Раз, два, три, четыре», - принялся пересчитывать цветы Константин Матвеевич и досчитал до семи. Одновременно он заметил, что на сей раз цветы походили на мыльные пузыри, но более затейливой, нежели сферическая, конфигурации: они вращались на черенках, переливаясь всеми цветами радуги и «разбрызгивая» вокруг себя разноцветные искры, и увеличивались в размерах. Потом цветы превратились в плоды, и стали по одному срываться с веток материнского дерева.
Из первого плода, не успел он коснуться чудесной земли около Сакуры, получился японский мужик с удочкой. Из второго – тоже японский мужик, но уже с молотом и мешком на плече. Третий плод превратился в согбенного старичка очень умного вида, подпирающего свою согбенность солидным посохом, к которому был прикреплёно что-то лёгкое, трепыхающееся от лёгкого ветерка. И ещё старичок, едва «вылупился» из своего плода, тотчас приложился к бутылке.
«Во даёт!» – восхитился Сакуров, почему-то решив, что старичок из бутылки не чаю отхлебнул, а реального саке.
Четвёртый плод «разродился» другим японским дедушкой, очень добрым не только с лица, но и со всей его стати. В общем, четвёртый дед был зело широк в талии.
Пятый плод выдал ещё одного японского старца, но какого-то невообразимого, – с огромной остроконечной головой.
Из шестого плода получился здоровенный малый в полном боевом самурайском прикиде. Но так как Сакуров знал о полном самурайском прикиде немного, то из пятого плода получился какой-то Илья Муромец, однако глаза он имел раскосые, а растительность на лице самую вредительскую.
А вот седьмой плод удивил, так удивил. Мало, он подарил наступающему на зарождающейся земле свету японскую женщину, плод ещё и снабдил эту женщину поместительной лодкой, гружёной всяким добром. Каким, Сакуров не разглядел, но почему-то решил, что добро нехилое.
«Вон как сверкает!» – совершенно платонически констатировал бывший морской штурман, наблюдая лодку, добро горой выше бортов и японскую девицу в кимоно (про кимоно Сакуров знал, какое оно) на корме лодки.
Когда он оторвал взор от лодки и обратил его на Сакуру, то обнаружил там новые пять цветов. Они скоро реализовались плодами, похожими на подвешенных к веткам Будд. Про Будд, какие они примерно, бывший морской штурман тоже знал, поэтому подвешенные к веткам Будды были как Будды. Но любоваться ими Сакурову долго не пришлось, потому что плоды в виде известно кого сорвались один за другим с ветвей Сакуры, и, не достигая земли, превратились в разные, в прямом смысле этого слова, явления. Или (опять же, в прямом смысле этого слова) в ощущения, так как сразу после дематериализации последнего из пяти плодов во время его падения с ветки Сакуры, Сакуров почувствовал какую-то невыразимую тоску, а из деревни послышалась похоронная музыка.
«Ну, здрасьте, - загрустил бывший морской штурман, - давно я не присутствовал на японских похоронах…»
Однако его настроение плавно трансформировалось из донельзя гнусного в слегка приподнятое, каковая приподнятость инициировалась припоминанием той простой истины, что один хрен все там будем. Затем душераздирающая музыка перестала казаться таковой. Потом Сакуров порылся в своей памяти в той её области, где хранились сведения о разных религиях, и ему стало почти весело, потому что всякая религия предлагала загробную жизнь.
«Оно, конечно, в рай меня, ни в христианский, ни в мусульманский, ни, тем более, в иудейский, не пустят, - благодушно подумал грешный труженик среднерусской нивы, - но и в аду жить можно…»
И, не успел он додумать свою умную мысль, как японские похороны, пока невидимые и зарождавшиеся где-то в глубинах диковиной деревни, вскоре превратились в какое-то праздничное шествие, больше похожее на движение участников бразильского карнавала, чем на проводы в последний путь некоего японского бедолаги. И Сакуров, наблюдая выход весёлых ряженых на околицу, радостно подумал о том, что какие на хрен печали, потому что легче, по большому счёту, стало всем участникам данной наблюдаемой им похоронной процессии. И тем, кто тащил покрытые цветами носилки, потому что не нужно больше ухаживать за достающим своим нытьём и болячками родственником. И тому, кто в этих носилках ехал. Потому что тот, который ехал, всего лишь возвращался туда, откуда на краткий миг недавно вышел для знакомства с враждебным миром. Вышел, в общем, из вечности, помаялся в миру и – снова обратно, в свою любимую ни жаркую – ни холодную вечность, где нет никаких болезней от инфекционных до посттравматических, нет докторов с их меркантильными харями по сто баков за консультацию, нет квартплаты, и нет её самой, этой с вечно протекающей канализацией и с неистребимыми тараканами квартиры.
Враждебность мира, кстати, не замедлила о себе напомнить громом среди ясного неба и проливным дождём. Но участники процессии не пали духом, донесли носилки до места, развели костерок и с песнями и с плясками проводили дым своего соплеменника в ту сторону, куда дул невесть откуда взявшийся после проливного дождя ветер.
На этом месте, достигнув апогея какой-то неприличной радости, Константин Матвеевич слегка устыдился (всё-таки похороны) и ощутил в себе философское направление в смысле желания урегулировать распоясавшиеся чувства. Бывший морской штурман сделал во сне небольшое душевное усилие и ощутил в себе такое равновесие всех известных ему чувств и ощущений, что ему захотелось петь жалостливые псалмы, танцевать зажигательную джигу, строить оросительные каналы и сочинять грустные элегии одновременно.
«Тоже мне, знаток псалмов и элегий хренов», - невольно усмехнулся во сне Сакуров и обратил внимание на новые цветы, появившиеся на Сакуре, числом ровно двенадцать. И на сей раз из этих цветов не получилось никаких плодов, потому что цветы один за другим сдуло с дерева налетевшим ветерком. И над образовавшейся синтоистской панорамой в лучах восходящего солнца получилась такая пёстрая круговерть, что Сакуров, замороченный начавшейся с круговертью сменой запахов и красок, сначала не понял её содержания. Но потом взял себя в руки и быстро разобрался со сменами запахов и красок как с сезонными. При этом он удивился быстроте, с какой данные сезоны менялись, и отчётливости незначительных перемен, происходящих на его глазах в каждом сезоне.