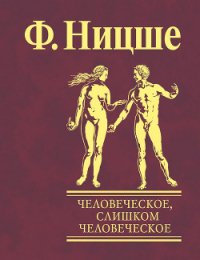Внутренний опыт - Батай Жорж (книги онлайн TXT) 📗
Продолжение сводки. — Современный человек, человек уничтоженный (но ничего не получивший взамен) наслаждается спасением на земле. Киркегор — крайность христианства. Достоевский (в “Записках из подполья”) — стыда. В “Ста двадцати днях” мы достигаем вершины сладострастного ужаса.
В Достоевском крайность явилась результатом разложения, но это разложение — словно зимний паводок: ничто не могло его удержать. Нет ничего более страдальческого, болезненного, бледная немочь религиозности. В “подполье” крайность отнесена за счет нищеты. Обман, как и у Гегеля, но Достоевский выходит из положения иначе. Христианство, может быть, не запачкано казнением, болотом стыда. Говорят: “… да это вызвано только тем…”, но нет, ибо дело в том (за исключением двусмысленных случаев), чтобы именно унизить, обесценить. Пока я далек от того, чтобы стоном стонать: не то зло, что крайность достигается через стыд, но то, что ее ограничивают стыдом! Отбросить крайность (в глубине себя восхитившись ею) в сторону демонического, отбросить любой ценой — значит изменить ей.
Мои средства: выражение, неловкость. Обычное условие жизни: соперничество между разными существами, кому больше достанется. Цезарь: “чем вторым в Риме…” Люди таковы — так уж скудны, что все кажется ничтожным, если нет нужды что-то преодолевать. Часто я сильно грущу, так что, едва начав соизмерять недостаточность моих средств, устаю, впрочем, не отчаиваюсь. Проблемы, которые стоит рассматривать, имеют смысл лишь при том условии, если, поднимая их, мы достигаем вершины: чтобы оказаться разорванным, требуется безумная гордыня. Порой — наше существо скользит к исчезновению ни за что — рвут себя на части с единственной целью удовлетворить эту гордыню: все гибнет в вязком тщеславии. Уж лучше быть деревенской галантерейщицей, хитро щуриться на солнце, чем…
Крайность отсылает к тщеславию, затем тщеславие отсылает к крайности. Детскость, сознающая себя детскостью, приносит освобождение, но, принимая себя всерьез, детскость увядает. Поиски крайности тоже могут войти в детскую привычку: надо смеяться над ними, по крайней мере тогда, когда у вас — на счастье — защемило сердце: это сближаются экстаз и безумие.
Еще раз: осознанная детскость — это слава, а не стыд человека. Наоборот, когда, вслед за Гоббсом, говорят, что смех унижает человека, тогда опускаются на самое дно вырождения: нет ничего менее ребяческого и более далекого от осознанной ребячливости. Всякая серьезность, отвергающая крайность, ведет к вырождению человека, к его полному крушению: в ней выходит наружу его рабская природа. Еще раз: я зову к детскости, к славе; крайность будет в конце, только в самом конце, как смерть.
Достигая крайности, которая бежит меня, я умираю, и это я, оказываясь в состоянии рождающейся смерти, говорит с живыми: о смерти, о крайности.
Самые серьезные люди кажутся мне детьми, которые не знают себя: они отделяют меня от людей истинных, которые знают о своей детскости и смеются в лицо бытию. Но чтобы быть ребенком, надо знать, что серьезное существует — где-то не здесь и какая разница где, — в противном случае ребенок не мог бы ни смеяться, ни тосковать.
Чтобы играть и пугать друг друга, дети нуждаются не в серьезности счетовода, но в крайности, в безумной трагедии.
Край — что окошко, страх перед краем связывает с сумраком камеры, с пустой волей “тюремной администрации”
IV
В бесконечном ужасе войны люди — толпами — подступают к страшному краю. Но человек далек от того, чтобы хотеть ужаса (и крайности): пытаться избежать неизбежного — вот что выпало на его долю. Его глаза, хотя и жаждут света, упорно избегают солнца, а кротость взгляда только изобличает сумерки, быстро навеваемые сном: если всмотреться в человеческую массу, в ее непроницаемые глубины, то становится видно, как она погружается в сон, как она все дальше и дальше уходит в себя, замыкается в оцепенении. Однако рок слепого движения отбрасывает ее к крайности, наступает день, когда она к ней устремляется.
Ужас войны превосходит ужас внутреннего опыта. В скорби поля брани есть нечто более тягостное, чем “темная ночь” человека. Но на поле сражения навстречу ужасу увлекает более сильное движение: действие, проект, связанный с действием, позволяет преодолеть ужас. Это преодоление придает действию пленительное величие, но тем самым ужас отрицается.
Я понял, что избегал проекта внутреннего опыта и удовлетворялся тем, что был в его власти. Я его жажду, я связан его необходимостью, хотя я ничего не решал. По правде говоря, никто тут не может решать, поскольку природа опыта такова, что он не может существовать как проект, разве что насмешки ради.
Я живу, и все представляется так, словно жизнь без крайности возможна. Более того, желание упорствует во мне, но какое-то слабое желание. К тому же мрачные перспективы крайности хранятся в моей памяти, однако они больше не ужасают меня, и я, дурак дураком, беспокоюсь о смехотворных невзгодах, о холоде, о фразе, которую должен дописать, о моих планах; перед лицом “ночи”, в которую я брошен, в которую, знаю, паду вместе со всем что есть, перед лицом этой истины, в которой не могу сомневаться, я остаюсь словно ребенок, она бежит от меня, а я ничего не вижу. В этот миг я нахожусь во власти вещей, которыми пользуюсь, остаюсь посторонним тому, что пишу. Быть в ночи, гибнуть в ночи, не имея сил даже на то, чтобы видеть это, знать, что ты заперт в этой темноте, и невзирая на нее видеть ясно — я могу выдержать такое, рассмеявшись с закрытыми глазами над моей “детскостью”.
Я добираюсь, наконец, до следующего положения: внутренний опыт противоположен проекту. И ничего больше.
“Действие” находится в полной зависимости от “проекта”. И что серьезнее, рассуждающая мысль сама по себе связана с модусом существования проекта. Рассуждающая мысль происходит от человека, связанного действием, она проистекает из его проектов, она развертывается как рефлексия над этими проектами. Проект — это не только модус существования, предполагаемый действием, необходимый для него, это парадоксальная манера быть во времени: откладывание существования на потом.
Теперь тот, кто станет сожалеть о толпах людей, теряющих жизнь (по мере того, как над ними властвуют проекты), мог бы обрести простоту Евангелия: красота слез, тоска сделали бы его слова прозрачными. Я говорю об этом как можно проще (хотя злая ирония переполняет меня) — не могу идти впереди других. Впрочем, весть моя отнюдь не благая. Да это и не “весть”, а в известном смысле тайна.
Стало быть, если не смеешься или не… то говорить, думать — значит увиливать от существования: не умирать, но быть мертвым. Это значит быть в потухшем и покойном мире, где мы обычно влачим свое существование; туг все приостановлено, жизнь откладывается на потом, все откладывается и откладывается… Достаточно крохотного сбоя в осуществлении проектов — и пламя затухает, буря страстей сменяется затишьем. Самое странное, однако, в том, что само по себе упражнение мысли привносит в дух ту же атмосферу приостановленности, умиротворения, что царит на рабочем месте. Самый изощренный вариант бегства представлен в одном декартовом утверждении. (Девиз Декарта: “Larvus prodeo” {“Подобно тому как актеры, дабы скрыть стыд на лице своем, надевают маску, так и я, собирающийся взойти на сцену в театре мира сего, в коем был до сих пор лишь зрителем, предстаю в маске” (Р. Декарт. Соч. в2-хт. Т. 1. М., Мысль, 1989, с. 573. Пер. с лат. Я. А. Ляткера).} ; иду вперед под маской: мною владеет тоска, и я мыслю, мысль приостанавливает во мне тоску, я есмь бытие, наделенное властью приостанавливать в себе само бытие. После Декарта: мир “прогресса”, другими словами, проекта, — наш мир. Правда, война нарушает его спокойствие; мир прогресса влачит свои дни, но в смятении и тоске.)