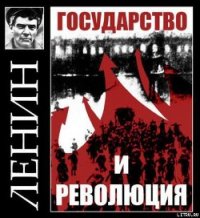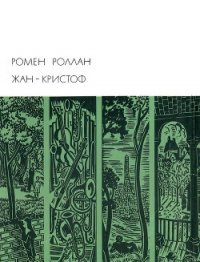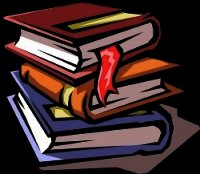Загадка Толстого - Алданов Марк Александрович (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений .TXT) 📗
Задняя мысль всей книги Паскаля заключалась в том, чтобы «нагнуть автомат, который увлекает ум без «размышления» («incliner l’automate qui entra?ne l’esprit sans qu’il у pense»). На этой задней мысли покоятся все догматические религии, да и толстовству она, в сущности, не совсем чужда. Но все же автор «Критики догматического богословия» не решился бы скрепить своим именем религию автомата. Знаменитый довод, которым «раз навсегда» должен проникнуться автомат,— паскалевское «пари», — вряд ли бы понравился Толстому; и уж совершенно ему чужды не менее знаменитые выводы из этого аргумента: «Vous voulez alter ? la foi et vous n’en savez pas le chemin; vous voulez vous gu?rir de l’infid?lit?, et vous en demandez les rem?des: apprenez de ceux qui ont ?t? li?s comme vous et qui parient maintenant tout leur bien; ce sont les gens qui savent ce chemin que vous voudriez suivre, et gu?ris d’un mal don’t vous voulez gu?rir. Suivez la mani?re par o? ils ont commenc?; c’est en faisant tout comme s’ils croyaient, en prenant de l’eau b?nite, en faisant dire les messes, etc. Naturellement meme cela vous fera croire et vous ab?tira. — Mais c’est ce que je crains. — Et pourquoi? qu’avez-vous ? perdre?» {72} Эта идея неотделима от Паскаля, что бы ни говорили набожные люди, которым очень хочется сделать из автора «Мыслей» второй экземпляр Боссюэ или, еще лучше, предтечу Поля Бурже. Но для Толстого данное наставление означает то, на борьбу с чем он потратил тридцать последних лет своей жизни. Здесь он вынужден решительно порвать с Паскалем. Однако, взамен идеи пари он не дает ничего.
Автор книги Иова щедро дарит своему герою в награду за веру 140 лет жизни, 10 душ детей, 14 тысяч овец и 6 тысяч верблюдов, тысячу пар быков и тысячу ослиц. Это, может быть, грубо, но вполне понятно. Паскаль останавливается на полпути: промучив читателя зрелищем грозящей ему казни, он становится мягче и начинает говорить о бессмертии. Последнее, правда, не гарантировано, но оно так вероятно, что всякий разумный человек должен держать пари, благо он ничего не теряет. Конечно, можно предложить Паскалю вопрос, который он сам ставит в другом месте своей книги по совершенно иному поводу: «Est-il probable que la probabilit? assure?» {73} Конечно, можно сказать, что и при беспроигрышном пари исход из этого мира, где многим живется недурно, есть все же насильственное изгнание: Паскаль не имеет власти помиловать человечество; в лучшем случае он заменяет ему казнь вечной ссылкой. Но это все-таки — что-нибудь. Толстой и этого не обещает. Он говорит: «Любовь есть отрицание смерти, любовь — жизнь, любовь — Бог, и смерть означает возвращение частицы любви — моего я, к ее вечному и всеобщему источнику». Но это превышает способность нашего понимания. Человек страдал, человек умер. Частица любви вернулась к вечному источнику. Смерть могла бы быть безболезненной, умирающий мог бы и не прозреть, как прозрел Иван Ильич, — что бы это изменило? Частица любви вернулась бы туда же. Но если так, если моралист не может нам предложить ничего лучше возвращения частицы любви к вечному, всеобщему источнику, то напрасно художник рисовал такую страшную картину. Не всякий скажет: «какая радость!» с несчастным Иваном Ильичом, безжалостно принесенным в жертву непонятной для нас идее; не всякий умилится перед la gentilezza del morir {74}, открывающейся у двери гроба, и напрасно говорил Толстой каждой строчкой своей повести: придите ко мне вы, спокойные и довольные, — я расстрою вас.
Такие призывы бывают полезны, когда речь идет о том, что находится во власти рук человеческих. Но в противном случае мы говорим с недоумением: «Что и жалеть, коли нечем помочь». А тем более — «что и пугать»... Люди живут in hac lacrimarum valle {75} не потому, что им очень весело, приятно или спокойно. А просто — торопиться некуда, умереть не поздно никогда: все успеем належаться в червивой могиле. К тому же не всякого удается запугать. Например, Вольтер, который терпеть не мог Паскаля, стоя одной ногой в могиле, отвечал на его запугивания следующей забавной тирадой:
«Я приезжаю из провинции в Париж, меня проводят в прекрасный зал, где тысяча двести человек слушают очаровательную музыку. Затем общество, разделившись на небольшие группы, отправляется ужинать, а после очень хорошего ужина не совсем неприятно проводит ночь. В этом городе в чести искусство, хорошо вознаграждаются отталкивающие ремесла, очень облегчены болезни, предупреждены несчастные случаи. Все наслаждаются жизнью, надеются наслаждаться, работают, чтобы наслаждаться позже, — последняя доля отнюдь не самая плохая. Видя всё это, я говорю Паскалю: «Мой великий человек, да вы с ума сошли!» {76}.
35-летний «счастливец» Левин (так называет его Степан Аркадьевич) ночью с ужасом всматривается в зеркало, с волнением производит смотр седым волосам, зубам, мускулам, хотя он, быть может, и не читал никогда Паскаля. 82-летний Вольтер, прочтя о «людях, приговоренных к смертной казни», об «узниках, закованных в цепи», преспокойно переносится мыслью к очень хорошим ужинам и приятно проведенным ночам. Здесь обычное затруднение внелогичного: кроме инстинктивного «с одной стороны», есть инстинктивное «с другой стороны», и конечно, пропорция обеих «сторон» каждым человеком находится самостоятельно, в зависимости от тысячи самых различных обстоятельств порядка внешнего и особенно внутреннего. Прокаженный нищий Иов — оптимист; царь Соломон, утопавший в славе и богатстве, имевший семьсот жен и триста наложниц, — пессимист. Эти два типа людей не только не понимают, но глубоко презирают друг друга. Вольтер совершенно серьезно считал Паскаля сумасшедшим и даже придумал для его душевной болезни объяснение полумедицинского характера {77}. Толстой о Тютчеве (впрочем, не принадлежавшем к чисто вольтеровскому типу людей) говорил, не задумываясь, следующее: «Когда старик Тютчев, у которого песок... сыплется, влюбляется и описывает это в стихах, то это только отвратительно!.. Это как сегодня был у меня посетитель: говорит о религии, о Боге, а я вижу, что ему водки выпить хочется...» {78}. Здесь логике нечего делать, так как перед нами больше, чем спор двух мировоззрений: точно говорят существа, отличные друг от друга по природе. И невольно в памяти встает изречение современного мыслителя: «Qu’est се qu’une doctrine, sinon la traduction verbale d’une physiologie?» {79}.
VI.
От «Смерти Ивана Ильича»« переход к «Хаджи-Мурату» кажется несколько странным. Между этими двумя произведениями, которые разделены десятилетним промежутком времени, пропасть еще глубже, чем между «Анной Карениной» и «Крейцеровой сонатой». Толстой создал поэму жизни после поэмы смерти! Он писал «Хаджи-Мурата» очень долго. Черновой список повести закончен 14 августа 1896 года, но, как свидетельствуют выдержки из дневника Льва Николаевича, приводимые в издании графини А. Л. Толстой, автор думал и работал над этим своим произведением в 1897, 1898, 1901, 1902, 1903 и 1904 году. Так долго Толстой не вынашивал ни «Войны и мира», ни «Анны Карениной»; а между тем вся повесть занимает менее десяти печатных листов. В конце концов Толстой так-таки бросил «Хаджи-Мурата», который, как известно, появился лишь в посмертном издании. Легко понять эти мучительные колебания великого писателя. Логическая концепция «Хаджи-Мурата» совершенно не вязалась с толстовским учением, а, напротив, решительно шла с ним вразрез; при всем желании Толстой не мог подогнать эту прекрасную поэму ни под один из своих любимых моральных догматов. Я говорю: при всем желании. В своем дневнике (от 4 апреля 1897 года) Лев Николаевич пишет: «Вчера думал очень хорошо о Хаджи-Мурате, — о том, что в нем, главное, надо выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман». Приходится заключить, что главного Толстой не сделал: обмана веры в его повести нет, потому что и веры, в сущности, нет никакой. Хаджи-Мурат до последней минуты строго придерживается религиозных обрядов, аккуратно прочитывает молитвы и совершает намаз. Но если отвлечься от обрядовой стороны жизни, то он, конечно, не имеет никакой религии. Хаджи-Мурат — не более религиозная натура, чем Лукашка в «Казаках» или Долохов в «Войне и мире».