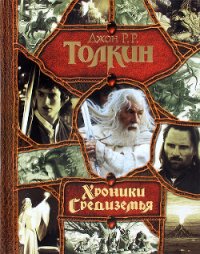Мир - Бибихин Владимир Вениаминович (читать книги полные .txt) 📗
Мы навсегда отказываемся понимать мир и мир отдельно. Мир один, нет «целого мира» без мира согласия; и ненастоящий тот покой, в котором мы не приподняты согласием с целым. Согласие раньше всего. Без опыта целого у нас нет никакого мира.
Мир, в котором мы живем, с его смыслом, хранимый круг нашей истории с началом, серединой и исходом, — не «объективная данность», он может утонуть, как град Китеж, даже без того, чтобы это кто-то наблюдал, разве что ощутит по тайной расхоложенности сердец, уже не посещаемых миром, — расхоложенности, которую не измерить социометрии. Мир не большой мешок, куда положено все, что есть. «Концепция» мира как множества «всех вещей» не просто мешает увидеть угрозу для мира, она сама и есть опасность. Опасность в том, что нам начинает казаться, что мир где-то там; что вещь, одна, один человек — это еще не мир, а вот много вещей, много людей будто бы мир. Весь мир присутствует в присутствии вещи и человека. Сознание силится охватить зараз как можно больше вещей, нарисовать самую большую картину. Но задача мысли не в том, чтобы размазать себя как можно шире по пространству. Дело мысли найти свое место. Она не имеет места, пока мечется, перебирая множества вещей. Хорошо для начала, если мысль будет не отталкиваться от вещей, а увязнет в них. Нет ничего менее престижного для «научной теории», чем увязнуть в чем-то. Но если мысль способна увязнуть в вещах, то они, возможно, и есть ее место. Увязнув в них, она, возможно, перестанет навязывать им то, что их связывает.
Чем мы, собственно, сейчас занимались? Предположим, мы сделали попытку проснуться от гипноза сознания. Ну и что, мы проснулись? Мы не знаем. Иногда во сне снится, что проснулся, но все еще спишь. Среди «проблем» современной философии сна, похоже, нет; философской энциклопедии, во всяком случае, статья такая показалась уже не нужна. Предполагается, что человек, берущий в руки философскую энциклопедию, уж во всяком случае не спит, проснулся и взялся за те важные проблемы, о которых говорит философия. Работает и, значит, уже перестал праздно любопытствовать о всяких не относящихся к делу вещах, — о снах, может быть, еще о сновидениях. Серьезный человек занимается серьезными вещами.
Правда, Гераклит сказал (фр. В I по Дильсу-Кранцу): «От людей скрыто то, что они делают наяву, как они забывают то, что делали в сновидении», т. е. человек наяву не весь, с существом человека происходит что-то важное, что он по-настоящему делает, только не сознанием, а самим присутствием, ему незаметным, — делает, что от него скрыто. Существо человека и то существенное, что осуществляется или не осуществляется в этом существе, от человека скрыто. Явь сознания так светла для того, чтобы человек за ней и в ней не замечал того, что с ним происходит, как светлое небо днем с одним солнцем не дает видеть черное ночное небо с многими солнцами.
Какое право имеет Гераклит так говорить?
И ещё: «Толпа (πολλοί, буквально «многие», теперь можно было бы сказать, «плюралисты», — πολλοί во всей греческой мысли от Гераклита до неоплатоников означает не народную толпу на рынке или на улице, а образованное общество, где у каждого свой взгляд на вещи, как Пушкин называет толпой людей рассуждающих:
Зачем так звучно он поет,
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет? —
и хоть поэт им отвечает:
Молчи, бессмысленный народ, —
он обращается вовсе не к народу на улице и площади, как об этом хорошо говорил Владимир Соловьев, не к деревенскому и торговому люду, а именно к образованному свету; «толпа» и «чернь» для поэтов всегда люди культуры, «развитого сознания», которые очень хорошо понимают, что поэт «небес избранник», оттого и требуют:
Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя, —
т. е. толпа, «многие», πολλοί — это люди со своими определенными мнениями, и вот мы читаем у Гераклита:
... люди толпы, οῖ πολλοί, не осмысливают того, на что они буквально наталкиваются, и если им покажешь, все равно не знают, сами же для себя — составляют мнение» (В 17).
Мнение, особое мнение, составить себе мнение для Гераклита — падучая болезнь, хуже беспамятного сна (В 46). Свое особое мнение у каждого и делает людей толпой, т. е. разрозненным и потерянным множеством: «я имею в виду», говорит человек толпы, и излагает свой «взгляд на вещи», а ведь мы на самом деле не имеем каждый свое, мы имеем в виду — как то, что видно, то, что очевидно, то, что есть, — один и тот же мир, и надо сначала уснуть и погрузиться в беспамятство, чтобы там видеть каждому свое. «Для проснувшихся один и общий мир (космос), а уснувшие каждый отворачивается в свой личный мир» (В 89).
Проснуться для Гераклита так трудно, как умереть, но ведь сон наяву — смерть (В 21), и надоумереть из смертного сна мнимой яви, чтобы проснуться к жизни. Между сном и логосом высокий порог, он не ниже, чем смерть. Один фрагмент Гераклита похож на игру слов (В 48): «луку имя жизнь, а дело его смерть», потому что «лук» в греческой эпической поэзии βιός, а жизнь — βίος. Гераклит не развлекается игрой слов, а думает о тайне смерти: ее высокий порог для того такой высокий, чтобы вернее охранить то, что он бережет, — вход в не-сон из сна, в жизнь из сонной смерти. Этот порог очень высокий, но не выше, чем существо человека, смертного: человек не кончается за порогом смерти или того, что сознанию кажется смертью, человек — смертный бог, бог — бессмертный человек.
Для Гераклита проснувшийся еще не обязательно уже не спит. Он, может быть, спит наяву. И не «может быть», а верный сон — мнение. В мнении человек говорит себе: вот, стало быть, как обстоит дело. Он перестает сомневаться, раз пришел к мнению, и значит, перестал сомневаться в том, что он проснулся, как однажды сознание, решив: «Я сознаю, следовательно, существую», — постановило, что оно проснулось уже окончательно. Сознание тогда проснулось. Для Гераклита мнение — не просто сон: падучая болезнь.
Но ведь Гераклит, Гераклит был давно, две с половиной тысячи лет. Что мы никак не отлипнем от Гераклита? Теперь все новое. С тех-то пор человечество, наверное, все-таки проснулось? Вопрос о том, спит человек наяву или не спит, наверное, все-таки разрешен и снят? Недаром же вот и в философской современной науке нет такой проблемы, «сон», потому что она, верно, уже разрешена, а мы об этом не удосужились справиться в соответствующей литературе, — да, возможно, и в психологии все сказано, — вот по незнанию и взялись за Гераклита и затеяли снова говорить о древностях.
Или, может быть, сон не такая «проблема», что ее можно раз и навсегда решить?
Гегель вел от Гераклита начало философии. Началом русской философии был Чаадаев.
Петр Яковлевич Чаадаев пишет в так называемых отрывках и афоризмах (Статьи и письма, М., 1987, с. 153): «Мне кажется, что сон есть настоящая смерть, а то что смертью называют, кто знает? — может быть, оно-то и есть жизнь?.. Дело в том, что истинная смерть находится в самой жизни. Половину жизни бываем мы мертвы, мертвы совсем, не гиперболически, не воображаемо, но действительно, истинно мертвы... Жизнь убегает от нас повсеминутно, часто к нам возвращается, но никак нельзя сказать, чтобы мы жили не переставая. Жизнь разумная прерывается всякий раз, как исчезает сознание жизни».
Сознание жизни... Сознание жизни — это для Чаадаева истинная жизнь, в отличие от сна. А как же это мы говорили, что сознание сон? Вот так, поспешишь и скажешь какую-нибудь нелепость? Чаадаев говорит, наоборот, что сознание жизни только спасает от сна? Мы должны все-таки придерживаться принятого словоупотребления, которое говорит, что истинная, проснувшаяся жизнь — это сознание?