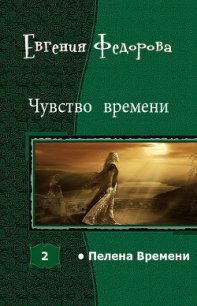Психологическая топология пути - Мамардашвили Мераб Константинович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
И чтобы пояснить разницу между описанием чего-то и самим этим «что-то», приведу пример совершенно бессмысленного словоупотребления «грузинский Ренессанс», так называемый «ранний грузинский Ренессанс». Почему это бессмысленно? И почему этот термин употребляют? По той простой причине, что в текстах есть слова, которые составляют набор слов, относимый нами к гуманизму, к воспеванию человеческих качеств, человеческой доблести и т д. и т д.; этими же словами описывается, скажем, возрожденческий опыт в Италии (их можно зафиксировать в грузинской литературе раньше, чем в Италии). И в итоге высокий продукт христианской средневековой культуры, совершенно иной, в силу наличия в нем этих слов, вдруг отождествляется с Возрождением, вопреки тому, что Возрождение означает существование опыта, реально проделанного людьми, которые один на один стояли с миром, и описывать их словами «индивид», «человеческая доблесть» – не есть употреблять просто слова, а есть описание движения в человеке и опыта этого движения, проделываемого достаточным числом людей. В грузинской культуре такого опыта не было. Так вот – как отличить одно от другого? Слова совпадают, одни и те же. Гуманистическая книга не есть гуманистический опыт, в смысле опыта человека, который, слыша «внутреннее слово», – не из текста перенесенное в душу, а являющееся собственным движением души, – покоится и полагается только на это перед лицом всего мира. И нужна очень большая отвага, чтобы верить собственному движению или движению в человеке, потому что на любое явление, окружающее тебя, всегда есть готовый ответ, выводимый из существующих сочетаний слов. Скажем, на любую проблему, которая встала перед Декартом, перед Монтенем, перед основателями невербального фундамента европейской культуры, существовал ответ, который можно было безукоризненно словесно (в словесных описаниях) получить и вывести из схоластики. Это, кстати, было доказано повторением этого эпизода в начале XX века в российской культуре, в которой, как вы знаете, появилась целая плеяда так называемых религиозных философов; и вот поразительное зрелище того, что – поскольку они двигались в области вербального, а не невербального, – они имели ответы на все вопросы, безупречно правильные в терминах христианского миросозерцания: что является грехом, что является, наоборот, доблестью; что является символом, а что является фетишизацией символа. Возьмите работы Трубецкого и вы увидите, что на все есть правильные ответы в догматическом смысле («догматическое» я не порицательно употребляю, а нормально), так сказать, доктринально-правильное: сочетания всех знаков и символов христианской веры дают понимание. И это понимание не корригировалось или не коррелировалось ни с каким реальным движением в актах, в действиях людей, которые на свой страх и риск, исходя из внутреннего движения, что-то предпринимали бы. Это были вербальные имитации того, что может иметь только невербальное существование, то есть быть или не быть как движение в человеке, а не нечто, получаемое из описания слов. После промежутка, весьма отработанного культурно, настолько, что помните, – не случайно в конце XX века раздается истошный крик Ницше, который предупреждает о том, что то, что держится на норме, не вырастая из собственной души человека, в том числе правила добра, если они не вырастают из души человека, то есть не коррелируются невербальным движением в человеке, все, что зафиксировано и работает как механизм нормативный цивилизации и культуры, – все это весьма хрупко и шатко (если не держится на вырастающих из душ людей невербальных действиях и способностях, которые в этих словах и нормах описаны), и очень опасно, ибо под этой отрегулированной, упорядоченной или доброупорядоченной пленкой таится лава вулкана, которая может прорвать эту пленку. Так и случилось. Вы знаете, какая лава таилась под российской пленкой, еще более тонкой, чем европейская пленка, и мы до сих пор являемся своего рода радиоактивными осадками той катастрофы, которая случилась. И, наверное, эта лучевая болезнь, живыми свидетелями или носителями которой мы являемся, серьезнее и страшнее, чем любая Хиросима или любые экологические катастрофы, которыми нам угрожают современные исследователи, описывая все опасности, с которыми может столкнуться род человеческий (например, столкновение с метеоритом или микрокосмической черной дырой и т д.). Так как это очень дальние катастрофы, а катастрофа нас самих (человека как элемента духовной и материальной среды) у нас под носом, и она реально происходит. И тем более важно для нас протащить через наши собственные души и продумать опыт таких писателей, как Пруст. Повторяю, домом европейской культуры является фигура невербального движения, держание человеком – на основе этого движения в себе – бытия. Оно, кстати, иначе и не держится – культурные механизмы, налаженные и действующие как бы без меня, не способны на то, чтобы держать бытие. В том числе держать то, что бьется и живет в стихотворении Галактиона Табидзе: там бьемся мы в той мере, в какой мы живые. И чтобы участвовать в этой жизни, в нас должно происходить движение, тогда мы включены в бытийный порядок, который живет в грузинской поэзии.
ЛЕКЦИЯ 25
23.02.1985
Вы помните, я надеюсь, что называет Пруст экспериментальной верой. Мысль Пруста состоит в том, что действительная скрытая и, как мы знаем, непрерывная реальность может быть предметом только такой веры, которая позволяет человеку, собирая самого себя, вытягивая свои ноги, руки, голову из каких-то спонтанных сцеплений механизмов (социальных, психологических, исторических), позволяет ему включаться в эту непрерывную реальность и видеть ее, то есть видеть какое-то место, где ткутся и плетутся наши судьбы. И называется такое отношение к миру «экспериментальным» потому, что приходится в настоящем, собственном, рискованном движении, без заранее данных гарантий, именно экспериментом, часто на свой собственный страх и риск, выявлять действительное лицо мира или реальности. И, самое главное, то, что называется экспериментальной верой, предполагает особое человеческое состояние, которое я называл «мужеством невозможного». Я просто приведу вам пример, чтобы вас не шокировало, когда философы применяют такие термины: «невозможное» или «невозможное мужество», – как может быть мужество невозможного? Подумайте над тем, что в составе человеческих переживаний и страстей есть всегда нечто, что в принципе не может быть ничьим переживанием, то есть не может быть предметом нашего переживания. Скажем, чистая, бескорыстная любовь в мире не существовала и не может существовать, и не может быть выполнен акт чистой и бескорыстной любви. И тем не менее она существует в регистре человеческих страстей, можно пережить ее реально в эмпирическом мире. Но, перейдя на религиозный язык, – в мире нет актов, фактов святости. Вот в таких случаях философы и вводят понятие границы, и такого рода предметы, называемые «святостью», «чистой доброй волей», – чистой доброй воли тоже не бывает, к чистой доброй воле, к совершенно бескорыстной доброй воле всегда примешано какое-то сенсуальное эмпирическое человеческое соображение; вполне чистой воли у человека быть не может, и в то же время мы пользуемся этим понятием, чтобы описывать человека, и сам человек имеет это в регистре своих мотивов, переживаний, целей и т д., – так вот, такого рода состояния, которые в принципе не могут быть никем пережиты как таковые, называются граничными состояниями. Они очерчивают мир, в котором могут случаться добрые поступки, очерчивают мир, в котором может случаться любовь, но ни один случай любви, ни один случай доброго поступка не есть сам этот граничный предмет, называемый «чистой доброй волей», «чистой, бескорыстной любовью» и т д. Можно назвать это метафизическими невозможностями. Из них вытекают в том числе и некоторые апории нашего сознательного и нравственного, и экзистенциального бытия, состоящие в том, что, например, есть что-то в принципе невозможное в любви мужчины и женщины, то есть невозможно выполнение некоторой полной гармонии душ, которая тем не менее, как граница самого переживания, остается, существует; как сказал бы философ – имеет онтологическое существование. То есть в онтологию попадают вещи, которые действуют в человеке и в мире, но при этом никем действительно не могут быть пережиты. Этот взгляд просто нужно уловить и удержать его, каждый раз нужно его себе напоминать снова, потому что раз навсегда выучить его нельзя. И, к сожалению, все важные вещи в нашем уме принадлежат к той категории вещей, которые каждый раз снова нужно завоевать, их нельзя раз и навсегда выучить и потом пользоваться как обретенным и выученным. В том числе и тот взгляд, который я пытаюсь вам передать, должен быть заново вспоминаем. Кстати, то, что у Пруста называется памятью, не есть память в нашем «обыденном смысле слова, а есть воссоздание, поэтому нужно говорить не «воспоминание», а «вспоминание». И действительная проблема памяти у Пруста, в том числе – обретенного, утраченного времени, относится к таким состояниям, которые, хотя они случались, нужно заново и непрерывно создавать.