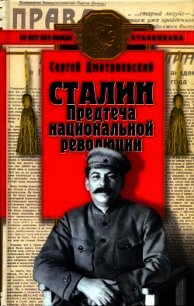Национал-большевизм - Устрялов Николай Васильевич (читать книги онлайн полные версии txt) 📗
«Не смейтесь — пишет он друзьям 6 сент. 1848 года. — Аминь, аминь, глаголю вам, если не будет со временем деятельности в России, — здесь (т. е. в западной Европе. Н.У.) нечего ждать, и жизнь наша окончена — ich habe gelebt und geliebt…» (я свое отжил и отлюбил — нем.) (VIII, 45; V, 110 и сл., 236).
«Мы обогнали, потому что отстали» — разве не точь-в-точь эту формулу упорно твердит в наши дни Ленин, разумеется, вне всякой сознательной связи с мечтой Герцена. Но эта мечта, становящаяся вещей, очевидно, как-то связалась с русской жизнью, вошла в организм души русской интеллигенции, и вот вдруг причудливо воплощается в грозу и бурю…
Итак, «Россия — юный шалопай, сидящий в тюрьме; он еще ничего не сделал путного, но обещает. Почтенный же старик рядом с ним уже много сделал, быть может, еще кое-что сделает, — но он стар»… (VIII, 90).
В духовном облике России обозначены черты, как раз необходимые для оздоровления современного человечества. Об этих чертах Герцен отчетливо напоминает Мишле в своем знаменитом письме к нему:
«Россия никогда не будет протестантскою. Россия никогда не будет «juste milieu». Россия никогда не сделает революции с целью отделиться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими. Мы, может быть, требуем слишком многого и ничего не достигнем; может быть, так, но мы все-таки не отчаиваемся. Прежде 1848 года России не должно, невозможно было вступить в революционное поприще, ей следовало доучиться, и теперь она доучилась» (VI, 457). Значит «теперь» т. е. в середине прошлого века, мы уже созрели для революции и доросли до социализма!!
Если в России нашему добровольному изгнаннику перлом революционного создания представлялась Европа, то в Европе его взор устремлялся домой. «Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил своим духовным возвращением на родину. Вера в Россию спасла меня накануне нравственной гибели». И еще: «Дорого мне стало знание Запада; насколько мог, я его узнал, и расстался с ним. Я сочувствую его мыслям, но не сочувствую ни его людям, ни его делам. Вера в будущее России одна пережил все другие» (V, 110; VIII, 290).
Эта вера вдохновлялась не только величием, но и своеобразием исторической миссии России. В своем революционном подвиге наша родина не будет рабски руководствоваться образцами Запада. «Прошлое западных народов служит нам поучением и только; мы нисколько не считаем себя душеприказчиками их исторических завещаний». Россия семимильными шагами пройдет пространство, преодолевавшееся Западном кровью и потом на каждом вершке. «Не должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития, или ее жизнь пойдет по иным законам? Я совершенно отрицаю необходимость этих повторений. Мы, пожалуй, должны пройти трудными и скорбными испытаниями исторического развития наших предшественников, но так, как зародыш проходит до рождения все низшие ступени зоологического существования… Россия преодолела свою революционную эмбриогению в «европейском классе»… Мы за народ отбыли эту тягостную работу, мы поплатились за нее виселицами, каторжною работою, казематами, ссылкою, разорением и нестерпимою жизнью, которой живем!» И в речи, произнесенной перед иностранцами 27 февраля 1855 г., в память февральской революции, Герцен бросает ту же мысль с чувством нескрываемой гордости: «Нам вовсе не нужно преодолевать вашу длинную, великую эпопею освобождения, которая вам так загромоздила дорогу развалинами памятников, что вам трудно сделать шаг вперед. Ваши усилия, ваши страдания — для нас поучения. История весьма несправедлива, поздно приходящим дает она не обглодки, а старшинство опытности. Все развитие человеческого рода есть не что иное, как эта хроническая неблагодарность» (VI, 456; VIII, 46, 151).
Таким образом, великая революция придет из России, и старая Европа, до мозга костей больная мещанством, будет бояться этой революции. Бояться за свой «груз культуры», за «развалины памятников», за «бездны ценностей», ставших фетишами…
Разве в этом бреде революционного романтизма нет ничего пророческого? Разве современная философия «скифства» не содержится в нем, как в зерне? Разве «зерцалом в гадании» не постигает он ту огромную пропасть между февральской импотенцией и мучительными октябрьскими родами, которую нам суждено узреть «лицом к лицу»? И, наконец, — разве не явился сам этот пророческий бред одной из сил, приведших Россию к нынешнему великому лихолетью?..
III
Свою веру в будущность России Герцен, как известно, связывал с чрезвычайно высокой оценкой крестьянской общины. Община приучила наш народ к социализму, от нее непосредственно легко перейти к социалистическому строю общества, осознанному на Западе, но невоплотимого там без русского импульса: «Слово социализм неизвестно нашему народу, но смысл его близок душе русского человека, изживающего век свой в сельской общине и в работнической артели. В социализме встретится Русь с революцией». Европейская идея, усвоенная русской интеллигенцией («европейским классом» — по Герцену), найдет свое осуществление в русском народе. «Социализм ведет нас обратно к порогу родного дома, который мы оставили, потому что нам тесны были его стены, потому что там обращались с нами, как с детьми. Мы оставили его немного недовольные и отправились в великую школу Запада. Социализм вернул нас в наши деревенские избы обогащенных опытом и вооруженных знанием. Нет в Европе народов, более подготовленных к социальной революции, чем все неонемеченные славяне, начиная с черногорцев и сербов и кончая народностями России в недрах Сибири… Я чую сердцем и умом, что история толкается именно в наши ворота» (VII, 229, 253; VIII, 494). Русскому народу после революции нетрудно будет привить себе социализм. «Отделавшись от царя Николая», он сразу превратит в действительность мечту, недосягаемую для Запада. «Социализмом революционная идея может у нас сделаться народною. В то время как в Европе социализм принимается за знамя беспорядка и ужасов, у нас, напротив, он является радугой, пророчащей будущее народное развитие… Время славянского мира настало. Таборит, общинный человек, тревожно раскрывает глаза. Социализм, что ли, его пробудил?» (VIII, 53, 56).
Конечно, в этой своеобразной идеализации общины было много наивного утопизма, и недаром позднейшее поколение упрекало за нее Герцена. Конечно, община не сыграла той роли, которую предназначал для нее наш «барин-социалист». Но не в ней суть дела. Она — в осанне социализму и в теории мессианского призвания России. И та, и другая прочным «завоеванием» вошли в русскую интеллигентскую душу, воспитывая в ней те струны, что ныне, празднуя пробуждение русского народа, зазвучали на весь мир.
«Коммунизма бояться нечего, он же неотвратим, это будет истинная ликвидация старого общества и введение во владение нового» (VI, 430) — вот лозунг, брошенный нашему «европейскому классу» его вождем ровно семьдесят лет тому назад. Что же, разве не современен теперь этот лозунг?
В течение семи десятилетий уясняла и заботливо углубляла его наша общественно-политическая мысль и вот, наконец, спала завеса и во всей своей жуткой реальности предстал «новый мир», выстраданный в подполье, вырешенный в бесконечных сектантских спорах, искупленный каторгой и казематами. На практике познали мы смысл различия, с такой назидательной ясностью и поразительной злободневностью терминологии устанавливаемого Герценом: «Главное различие между социалистами и политическими революционерами состоит в том, что последние хотят переправлять и улучшать существующее, оставаясь на прежней почве, в то время как социализм отрицает полнейшим образом весь старый порядок вещей с его правом и представительством, с его церковью и судом, с его гражданским и уголовным кодексом, — вполне отрицает так, как христиане первых веков отрицали мир римский». И уж, конечно, прежде всего истребляет новый мир презренную «представительную систему» — это «хитро продуманное средство перегонять в слова и бесконечные споры общественные потребности и энергическую готовность действовать». Разумеется, «ни этих вселенских соборов для законодательства, ни представителей в роли первосвященников вовсе не нужно» (V, 440, 494)… Воистину, бравый матрос Железняк имел бы полное основание подтвердить звучной цитатой из Герцена свой решительный поступок 5 января 1918 года… если бы это не было практически излишне…