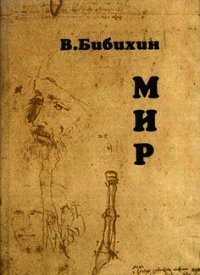Другое начало - Бибихин Владимир Вениаминович (книги онлайн без регистрации TXT) 📗
9. Именно поэтому в саму музыку праздника, как замечает Седакова, прямо в пирующем Вступлении вкладывается, прокрадывается то, что уже не чистый блеск и радужное первотворчество, а требует работы, да еще какой: человеческой, исторической. Седакова: «По странной иронии, на месте обобщения во Вступлении оказывается строфа, заключающая резко противоположное осмысление всего рассказанного прежде».
Мы ее цитировали выше. Куда вдруг девается чудо природного и исторического творчества, непобедимая сказочная Империя. России только еще желают быть «неколебимой», стихии — побежденной и усмиренной; бестревожность вечного сна Петра не обеспечена, отнесена в будущее. Всякий умерший оказывается в вечном покое, но тут спит не столько душа, сколько дело, которое словно еще не совершено, стоит под новым «пусть будет».
Куда ушел сказочный город. Он никуда не ушел: он остался вечным праздником в теле поэмы, которое с опусканием занавеса в ее резком, надрывном конце не падает, а словно после простора и размаха праздника, не угашая световое событие, вдруг берется за дело, начинает работу, которой в мире столько, но которая по-настоящему не откроется, затеряется в сгустившемся мраке без развернутого сначала светлого мира.
Мы можем проследить, как возникла эта внезапная вспышка света во Вступлении к «Медному всаднику», по обрыву, тоже внезапному, «Езерского». Езерский начинался как раз с тревоги, заботы и отсюда брался за историческую работу. «Над омраченным Петроградом» в его первой строке передает знание уже совершившегося надрыва, омрачения города Петра. История сбилась с пути. Пушкин слышит это в 1832 подобно тому, как Блок слышал скифскую музыку революции в 1918, как Седакова слышала в полусне звук лопнувшего каната над пространством всей страны в 1989. «Езерский» начинался издалека обзором русской истории.
Начнем ab ovo: мой Езерский
Происходил от тех вождей,
Чей дух воинственный и зверский
Был древле ужасом морей…
Архивы роя
Я разобрал в досужный час
Всю родословную героя.
Почему я избрал себе такого героя, начинает потом рассудительно спрашивать себя Пушкин. От медлительной раскладки доводов переход к строфе XIII внезапный, как прорыв из тюрьмы на свободу. Зачем так выбрал?
Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На черный пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет.
Задумавшись было об истории как цепи, родословной, Пушкин вдруг видит в ее сердце свободу. Петр, сгусток мировой истории, брошен между пиром и чумой. Сияющий Петербург вступления, настоящий памятник Петру и городу, был подготовлен этим внезапным размахом неоконченного «Езерского». Там было движение от накопления к взлету. Наоборот в «Медном Всаднике»: сначала пролог на небесах и потом работа, разбор с внезапной остановкой в тупике ворочания больного на постели и слепой погони двух мировых начал. Пушкин навсегда прощается и с монархией и с романтизмом и делает шаг к будущему загадочному герою «Шинели» Гоголя, униженных Достоевского и смиренных Толстого. Ахматова говорит, что если в прежних героях Пушкина публика с готовностью и даже гордостью узнавала себя, то в Езерском-Евгении как раз едва ли. То же говорил Пушкин: публика идет вместе с поэтом до первых трудностей; как только начинается работа ума, оставляет его.
Замечено, что мечты Езерского те же, что у Пушкина этих его последних лет: покой и воля; просто жить, быть похороненным внуками. Позволили же ведь дожить свою жизнь Гёте. Дуэль, думал Пушкин и надеялся, скандалом вызовет новую ссылку в Михайловское, а уж что там делать, было ясно. У него на руках история Петра, новые документы к ней он просматривал перед самой дуэлью. Тогда же, за неделю до смерти, слышали от него, что напечатать «Историю» не удастся. До него могли дойти хотя бы слова брата царя, Михаила Павловича: Пушкин недостаточно воздает должное Петру Великому, его точка зрения ложна, он видит в царе скорее сильного человека чем творческого гения [19]. И помимо этого отзыва он сам знает, насколько его Петр необычен. Один французский автор, современник Пушкина, напечатавший о нем некролог 3 марта 1837 в Journal des débats, сообщал, что «взгляды Пушкина на основание Петербурга были совершенно новы и обнаруживали в нем скорее великого и глубокого историка нежели поэта» [20]. Спросите теперь, какие они были, после несчастной судьбы пушкинских тетрадок о Петре. Все они, числом 31, как-то затерялись в середине XIX века, в эпоху неотлагательных общественных перемен, и в 1917 из них были найдены уже только 22. Лакуны частично восстановлены по косвенным свидетельствам. Все тетрадки написаны в 1835 году, но по воспоминаниям Пушкин уже с 1831 только и говорил что о Петре. Петр одновременно тайна и разгадка русской истории.
О Пушкине верно говорят, что он конечно «не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовленных, как делают новейшие историки для удобного вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению». Пушкинское осмысление Петра и России было прямым участием в ее истории. На просторе вселенной под далекими звездами бездна, ураган, огонь, пир и чума параметры пушкинского мира, где слово и поступок одна расплавленная энергия. Кто кроме него осмелился в России на такое собирание в самой середине огня. Кто, шагнув в огонь, приносил обратно такой подарок. Кто способен в принципе такое принять и вместить. Рядом с Пушкиным никого нет.
10. Петр «Полтавы» и Вступления к «Медному Всаднику» не портрет, не «реальность», не «возвышающий обман», а явление света, создание мира. Заглядывая в смерть, бездну и чуму, Пушкин несет то откровение, что человеческая история другого смысла кроме подвига, победы и праздника иметь не может. Пушкинское заглядывание за край подготовлено, облегчено крайним опытом его страны и особенно петровской поры, к которой Пушкин настойчиво привлекает наше внимание: она предельная, окончательная, собрала в себе человеческую историю. В странном Петре, глядящем как в зеркало в монстров, Пушкин угадывает человеческое существо, брошеное в вихрь и потому способное быть местом для мира, его безусловного принятия.
Ту же свободу Пушкин знает в себе. «Гордись: таков и ты, поэт, И для тебя условий нет». Он чувствует, что Петербург, середина русской истории, стал или мог стать и во всяком случае должен был стать — иначе всё бессмысленно — праздником мира; на краю бездны, в огне, среди чумы — всё равно. Пушкин знает что говорит: этот сказочный Петербург расположился под золотыми небесами.
Воинский строй как космос (порядок) и вместе его защита — не символ или образ. Со времен Гомера и раньше на войну и спортивные упражнения люди вставали строем не символически, а всем телесным существом вступаясь за порядок бытия. Побеждал не сильнейший, а более верный строю мира, способный строже подчиниться ему. Среди разных именований мира во Вступлении у Пушкина одно из главных это, от воинского строя:
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость.
Строй со звездной отрешенностью поднят над «реальностью» не в обман и вымысел поэта, а в ту тягу, влечение которой на параде и войне ведет армию вернее всякой рационализации и целесообразности. Всё в армии жалким образом собьется на сброд, если не подтянется к идеальному уставу, звездам. Космический строй у Пушкина настолько отслаивается от провальной реальности к звездной правде, что сами человеческие головы внутри медных касок оказываются заменимы: