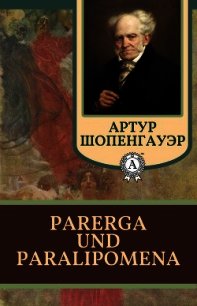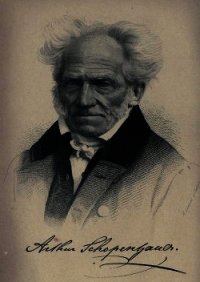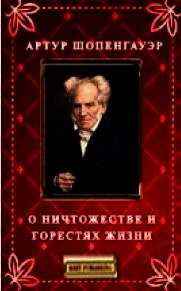Афоризмы житейской мудрости - Шопенгауэр Артур (читать книги онлайн .txt) 📗
В самом деле, ценность, придаваемая нами мнению других, и наша постоянная забота в этом направлении обычно не оправдываются почти никакой разумной целью, так что на них можно смотреть как на своего рода всеобщую манию, которая распространяется на всех людей, или, вернее, врождена им. Во всем, что мы делаем и допускаем, мы едва ли не прежде всего другого принимаем в расчет чужое мнение, и заботой о нем можно при ближайшем рассмотрении объяснить чуть не половину всех печалей и тревог, какие мы когда-либо испытывали. Ибо она лежит в основе всего нашего столь часто, благодаря своей болезненной чувствительности, оскорбляемого самолюбия, всех наших сует и притязаний, а также нашей пышности и важности. Без этой заботы и погони роскошь едва ли достигла бы десятой доли того, что мы видим теперь. В них берет начало всякая гордость, point d’honneur и puntiglio [62], как бы ни были различны ее характер и область, и каких только жертв она не требует! Она обнаруживается уже в ребенке, затем в каждом возрасте, всего же сильнее в преклонном, ибо тогда, при иссякшей способности к чувственным наслаждениям, суетность и спесь имеют своей соперницей во власти над человеком одну только скупость. Всего нагляднее можно наблюдать их у французов, у которых они вполне эндемичны и часто проявляются в нелепейшем честолюбии, комичнейшем национальном тщеславии и бесстыдном хвастовстве, чем они сами себя побивают, так как благодаря этому французы стали посмешищем других наций и выражение grande nation [63] обратилось в издевательство. Но чтобы показать еще частный случай, характеризующий рассматриваемую здесь манию чрезмерной заботливости о мнении других, приведу необыкновенно яркий, благодаря совпадению внешних обстоятельств с соответственным внутренним характером, прямо-таки разительный пример этой коренящейся в человеческой натуре глупости – на нем вполне можно видеть силу этого крайне странного стимула. Я имею в виду следующее заимствованное из газеты «Тайме» от 31 марта 1846 г. место в подробной корреспонденции о только что совершенной казни Томаса Викса, подмастерья, убившего из мести своего хозяина: «В назначенный для казни день, рано утром, к нему явился достопочтенный тюремный священник. Однако Викс, хотя вел себя спокойно, не обнаружил никакого внимания к его увещеваниям: напротив, единственно, о чем он думал, это – чтобы ему удалось выказать побольше молодечества перед свидетелями его позорного конца… И ему это удалось на самом деле. На дворе, где ему нужно было пройти к виселице, устроенной возле самой тюрьмы, он произнес: «Ну, как сказал доктор Додд, я скоро узнаю великую тайну!» Со связанными руками, но без малейшей посторонней помощи взошел он на лестницу эшафота; стоя на последнем, он посылал направо и налево поклоны зрителям, получившие себе ответ и награду в громовом одобрительном крике собравшейся толпы», и т.д. Великолепный образчик честолюбия: человек, имея пред собою смерть в самом ужасном ее виде, с открывающейся за нею вечностью, заботится только о впечатлении, какое он производит на сбежавшихся зевак, и о том мнении, какое он оставит о себе в их головах! Казненный в том же году во Франции за покушение на цареубийство Леконт во время своего процесса тоже печалился главным образом о том, что не может явиться перед палатой пэров в приличном одеянии, и даже в час казни он всего больше досадовал на то, что ему не позволили перед тем побриться. Что и прежде бывали подобные случаи, это мы видим из замечания Матео Алемана [64] в предпосланном его знаменитому роману «Гусман де Альфараче» введении (declaracion), именно что многие заблудшие преступники в последние часы, которые они должны были бы посвящать исключительно спасению своей души, вместо того занимаются обдумыванием и заучиванием небольшого поучения, какое им желательно произнести на лестнице эшафота. В подобных чертах мы, впрочем, находим свое собственное отражение, ибо повсюду из ряда вон выходящие случаи дают наиболее яркую иллюстрацию сути. У всех у нас то, что составляет предмет наших забот, печалей, скорбей, досад, беспокойств, трудов и т.д., в большинстве, пожалуй, случаев связано, собственно, с чужим мнением и столь же нелепо, как у тех бедных висельников. Здесь же по большей части лежит и источник нашей зависти и ненависти.
Очевидно поэтому – едва ли что могло бы в такой степени содействовать нашему счастью, которое главнейшим образом опирается на душевное спокойствие и довольство, как ограничение и ослабление этого стимула до разумно оправдываемой меры, быть может, в 50 раз меньшей, чем теперь, – иными словами, освобождение нашего тела от этого постоянно терзающего нас жала. Это, однако, очень трудно, – здесь нам приходится иметь дело с естественной и врожденной извращенностью. «Etiam sapintibus cupido gloriae novissima exuitur» [65], – говорит Тацит (История, IV, 6). Единственным средством избавиться от этой всеобщей глупости было бы ясно признать ее таковой и для этой цели убедиться в следующем: большинство мнений, которые царят в головах людей, обычно бывают совершенно ложны, превратны, ошибочны и нелепы и потому сами по себе не заслуживают никакого внимания; затем, мнение других, в большинстве вещей и случаев, может иметь очень мало реального влияния на нас; далее, оно по большей части вообще бывает очень неблагоприятным, так что почти каждый почувствовал бы смертельную обиду, если бы услышал, что о нем говорится и в каком тоне; наконец, даже сама честь, собственно, имеет для нас лишь косвенное, а не непосредственное значение и т.п. Если нам таким образом удастся отречься от этой общей глупости, то в результате неимоверно выиграет наше душевное спокойствие и веселье, а равным образом мы приобретем более твердые и уверенные приемы, выработаем себе во всех отношениях более непринужденное и естественное поведение. То крайне благотворное влияние, какое имеет на наше душевное спокойствие уединенный образ жизни, зависит в значительнейшей мере от того, что такая жизнь избавляет нас от постоянного пребывания на глазах у других и, следовательно, делает ненужным всегдашнее соображение о том, каково будет их мнение, и тем возвращает нас себе самим. Кроме того, мы избежали бы тогда очень многих реальных несчастий, в какие повергает нас теперь уже одно это чисто идеальное стремление подняться в мнении других, вернее – эта пагубная глупость; вместе с тем мы стали бы проявлять гораздо большую заботливость относительно серьезных благ, да и наслаждались бы ими беспрепятственнее. Но, как сказано, chalepa ta cala [66].
Изображенная здесь глупость нашей природы проявляется главным образом в трех формах: в виде честолюбия, тщеславия и гордости. Разница между двумя последними состоит в том, что гордость – это уже закрепившееся сознание обостренного превосходства в каком-либо отношении; тщеславие же – это желание привить подобное убеждение другим, сопровождающееся большею частью скрытой надеждой, что оно таким путем может обратиться и в наше собственное. Таким образом, гордость есть изнутри идущее, стало быть, непосредственное признание своей собственной высокой ценности; тщеславие же – стремление получить это признание извне, то есть косвенно. Соответственно тому тщеславие делает словоохотливым, а гордость – молчаливым. Но тщеславный должен был бы знать, что высокое мнение других, которого он так жаждет, гораздо легче и вернее достигается упорным молчанием, нежели разговором, хотя бы мы и могли поведать прекраснейшие вещи. Горд не тот, кто хочет казаться гордым: последний может, пожалуй, достигнуть своей цели, но он скоро собьется с этой роли, как это бывает со всякой принятой на себя ролью. Ибо лишь прочное, внутреннее, непоколебимое убеждение в своих превосходных качествах и своей особенной ценности делает человека действительно гордым. Пусть убеждение это будет ошибочным, пусть оно основано на чисто внешних и условных преимуществах – это не вредит гордости, если только она существует действительно и серьезно. Поскольку, следовательно, гордость имеет свой корень в убеждении, то, как и всякое познание, она не зависит от нашего произвола. Ее злейшим врагом, я хочу сказать – величайшей для нее помехой служит тщеславие, которому сначала нужно добиться одобрения других, чтобы основать на нем собственное высокое мнение о себе, между тем как гордость предполагает, что такое мнение уже вполне прочно в нас утвердилось.