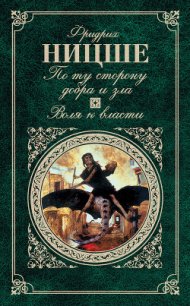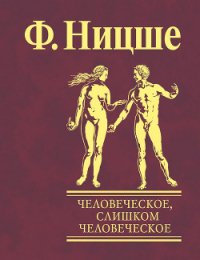Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей - Ницше Фридрих Вильгельм (серия книг TXT) 📗
49
В религиозности древних греков возбуждает наше удивление чрезмерный избыток изливаемой ею благодарности – в высшей степени благородна та порода людей, которая так относится к природе и жизни! – Позже, когда в Греции перевес перешел на сторону черни, страх стал превозмогающим элементом также и в религии; подготавливалось христианство. —
50
Страсть к Богу бывает разных родов: бывает мужицкая, чистосердечная и назойливая, как у Лютера, – весь протестантизм обходится без южной delicatezza. Бывает в ней восточное неистовство, как у раба, незаслуженно осыпанного милостями или возвеличенного, например у Августина, который самым обидным образом лишен всякого благородства в манерах и страстях. Бывает в ней женственная нежность и страстность, стремящаяся стыдливо и невинно к unio mystica et physica [30], как у m-me де Гюйон. Во многих случаях она является довольно причудливо, как маскировка половой зрелости девушки или юноши, временами даже как истерия старой девы, а также ее последнее тщеславие. Церковь не раз уже в подобных случаях признавала женщину святой.
51
До сих пор самые могущественные люди все еще благоговейно преклонялись перед святым, как перед загадкой самообуздания и намеренного крайнего лишения: почему преклонялись они? Они чуяли в нем, как бы за вопросительным знаком его хилого и жалкого вида, превосходящую силу, которая хотела испробовать себя на таком обуздании, силу воли, в которой они вновь опознавали собственную силу и желание владычества и умели почтить ее: они почитали нечто в себе, почитая святого. Кроме того, вид святого внушал им подозрение: к такой чудовищности отрицания, противоестественности нельзя стремиться беспричинно, так говорили и так вопрошали они себя. На это есть, быть может, основание, какая-нибудь великая опасность, насчет которой аскет, пожалуй, лучше осведомлен, благодаря своим тайным утешителям и посетителям? Словом, сильные мира узнали новый страх пред лицом его, они учуяли новую мощь, неведомого, еще не укрощенного врага: «воля к власти» принудила их остановиться перед святым. Они должны были справиться у него –
52
В иудейском «Ветхом Завете», в этой книге о Божественной справедливости, есть люди, вещи и речи такого высокого стиля, что греческой и индийской литературе нечего сопоставить с ним. С ужасом и благоговением стоим мы перед этими чудовищными останками того, чем был некогда человек, и в нас рождаются печальные думы о древней Азии и ее выдавшемся вперед полуостровке, Европе, которой хотелось бы непременно выглядеть перед Азией в значении «прогресса человека». Конечно: кто сам – только слабое ручное домашнее животное и знает только потребности домашнего животного (подобно нашим нынешним образованным людям, присовокупляя сюда и христиан «образованного» христианства), тому нечего удивляться, а тем более огорчаться среди этих развалин, – удовольствие, доставляемое Ветхим Заветом, есть пробный камень по отношению к «великому» и «малому» – быть может, Новый Завет, книга о милости, все еще будет ему более по душе (в нем есть многое от духа праведных, нежных, тупых богомольцев и мелких душ). Склеить этот Новый Завет, своего рода рококо вкуса во всех отношениях, в одну книгу с Ветхим Заветом и сделать из этого «Библию», «Книгу в себе», есть, быть может, величайшая смелость и самый большой «грех против духа», какой только имеет на своей совести литературная Европа.
53
Откуда нынче атеизм? – «Отец» в Боге основательно опровергнут; равным образом «Судья» и «Воздаятель». Опровергнута и его «свободная воля»: он не слышит, а если бы и слышал, все равно не сумел бы помочь. Самое скверное то, что он, по-видимому, не способен толком объясниться: не помутился ли он? Вот что, из многих разговоров, расспрашивая и прислушиваясь, обнаружил я в качестве причин упадка европейского теизма; мне кажется, что, хотя религиозный инстинкт мощно растет вверх, – он как раз с глубоким недоверием отвергает удовлетворение, сулимое ему теизмом.
54
Что же делает, в сущности, вся новейшая философия? Со времен Декарта – и именно больше в пику ему, нежели основываясь на его примере, – все философы покушаются на старое понятие «душа», под видом критики понятий «субъект» и «предикат», – это значит: покушаются на основную предпосылку христианского учения. Новейшая философия, как теоретико-познавательный скепсис, скрытно или явно, антихристианская, хотя, говоря для более тонкого слуха, она отнюдь не антирелигиозна. Некогда верили в «душу», как верили в грамматику и грамматический субъект: говорили, «я» есть условие; «мыслю» – предикат и обусловлено, – мышление есть деятельность, к которой должен быть примыслен субъект в качестве причины. И вот стали пробовать с упорством и хитростью, достойными удивления, нельзя ли выбраться из этой сети, – не истинно ли, быть может, обратное: «мыслю» – условие, «я» – обусловлено; «я» – стало быть, только синтез, делаемый при посредстве самого мышления. Кант хотел, в сущности, доказать, что, исходя из субъекта, нельзя доказать субъект, – а также и объект: может быть, ему не всегда была чужда мысль о возможности кажущегося существования индивидуального субъекта, стало быть, «души», та мысль, которая уже существовала некогда на земле в форме философии Веданты и имела чудовищную силу. [31]
55
Существует большая лестница религиозной жестокости со многими ступенями; но три из них самые важные. Некогда жертвовали своему Богу людьми, быть может, именно такими, которых больше всего любили, – сюда относится принесение в жертву первенцев, имевшее место во всех религиях древних времен, а также жертва императора Тиберия в гроте Митры на острове Капри – этот ужаснейший из всех римских анахронизмов. Затем, в моральную эпоху человечества, жертвовали Богу сильнейшими из своих инстинктов, своей «природой»; эта праздничная радость сверкает в жестоком взоре аскета, вдохновенного «противника естественного». Наконец, – чем осталось еще жертвовать? Не должно ли было в конце концов пожертвовать всем утешительным, священным, целительным, всеми надеждами, всей верой в скрытую гармонию, в будущие блаженства и справедливость? не должно ли было в конце концов пожертвовать самим Богом и, из жестокости к себе, боготворить камень, глупость, тяжесть, судьбу, Ничто? Пожертвовать Богом за Ничто – эта парадоксальная мистерия последней жестокости сохранилась для подрастающего в настоящее время поколения: мы все уже знаем кое-что об этом. –
56
Кто, подобно мне, долго старался с какой-то загадочной алчностью продумать пессимизм до самой глубины и высвободить его из полухристианской, полунемецкой узости и наивности, с которой он предстал напоследок в этом столетии, именно в образе шопенгауэровской философии; кто действительно заглянул когда-нибудь азиатским и сверхазиатским оком в глубь этого образа мыслей, отличающегося самым крайним мироотрицанием из всех возможных образов мыслей, и заглянул сверху – находясь по ту сторону добра и зла, а не во власти и не среди заблуждений морали, как Будда и Шопенгауэр, – тот, быть может, именно благодаря этому сделал доступным себе, даже помимо собственной воли, обратный идеал: идеал человека, полного крайней жизнерадостности и мироутверждения, человека, который не только научился довольствоваться и мириться с тем, что было и есть, но хочет повторения всего этого так, как оно было и есть, во веки веков, ненасытно взывая da capo не только к себе, но ко всей пьесе и зрелищу, и не только к зрелищу, а в сущности к тому, кому именно нужно это зрелище – и кто делает его нужным; потому что он беспрестанно имеет надобность в себе – и делает себя нужным – Как? Разве это не было бы – circulus vitiosus deus? [32]