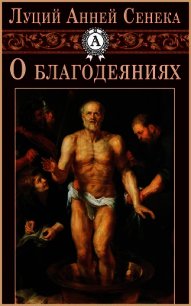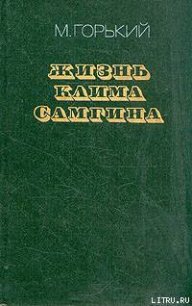Нравственные письма к Луцилию - Сенека Луций Анней (электронную книгу бесплатно без регистрации TXT) 📗
Чтобы снять противоречие, Сенека, также признающий, что «причина цепляется за причину» (Пров., 5, 7) смещает акцент, выдвигает вперед другое стоическое понимание рока — как воли миросозидающего логоса или, что то же, божества[40]. В отличие от человеческой воли, эта божественная воля может быть только благой (п. XCV, 49): бог величайший благодетель (Благ., I, 1, 9 и в других местах), слуга своих слуг (п. XCV, 48), он заботится о людях (п. ХС, 18) и воля его есть провидение.
Но отношение Сенеки к жизни было достаточно критическим, чтобы тотчас же встал вопрос о совместимости благого провидения и людских страданий. Ответ на него Сенека старался дать в трактате «О провидении» (его принято считать написанным одновременно с письмами). Бог посылает страдание с тем, чтобы закалить человека добра в испытаниях, и в этом он подобен любящему отцу, а не ласковой матери (Пров., 2, 5). Только в испытаниях можно выявить себя («Ты великий человек? А откуда мне это знать, если судьба не дает тебе случая показать твою добродетель?» — Пров., 4, 2), а значит, и доказать людям ничтожность невзгод. «У бога то же намеренье, что у мудрого мужа: обнаружить, что все желанное для толпы, все страшное для нее, — не благо и не зло» (Пров., 5,1). Так возникает решение проблемы судьбы-провидения и свободы воли: самый благой выбор — это приятие воли божества, пусть даже суровой:
«Великие люди радуются невзгодам, как храбрые воины — битве» (Пров., 4, 4). И не к образу собаки, привязанной к повозке, прибегает Сенека, а вспоминает стихи самого благочестивого из древних стоиков — Клеанфа, истово утверждающие радостное приятие воли богов (п.CVII, 11).
Как часть божественной воли человек добра воспринимает и смерть (Пров., 5, 8; то же — п. XXX и др.). В этом — лучшее лекарство против страха смерти, той из человеческих страстей, против которой Сенека в «Письмах к Луцилию» борется с наибольшим упорством[41]. Смерть предустановлена мировым законом и потому не может быть безусловным злом. Но и жизнь сама по себе не есть безусловное благо: она ценна постольку, поскольку в ней есть нравственная основа. Об этом Сенека писал уже давно: обжора Апиций, промотавшись, принял яд — самое полезное из всего, что он проглотил за свою жизнь (Гельв., 10, 9—10).
Та же этическая скала ценностей позволила Сенеке решить и вопрос о добровольной смерти. Когда-то Платон запретил человеку покидать пост, на который поставили его боги. Когда-то Зенон, сломавший ногу, увидел в этом волю призывавших его богов и ушел из жизни. Спустя несколько десятилетий после Сенеки Эпиктет в перекличке с Зеноном напишет: «Если ты, (боже), послал меня туда, где жить в согласии с природой человеку невозможно, я покину эту жизнь, не из непокорности, а потому что ты сам подал мне сигнал к отступлению»[42]. Сенека стоит посредине между Платоном и Зеноном. Нельзя уходить из жизни под влиянием страсти (п. XX 1У, 24 — 25, XXX, 15). Разум и нравственное чувство должны подсказать, когда самоубийство являет собой наилучший выход. И критерием, который философ пытается найти, оказывается все та же этическая ценность жизни, определяемая возможностью исполнять свой нравственный долг. Как бы ни угнетали тебя болезни и старость, ты не вправе уходить из жизни, пока твоя жизнь нужна близким (п. CIV, 3), пока ты можешь выполнять долг перед ними и перед своею природой: «Я не покину старости, если она сохранит меня в целости — лучшую мою часть: а если она поколеблет ум, если будет отнимать его по частям. .. я выброшусь вон из трухлявого, готового рухнуть строения» (п. LVIII» 35). Но вместе с тем, если не останется возможности исполнять свой долг человека, самоубийство не только допустимо, но и оправдано. А возможность эта исчезает тогда, когда человек оказывается под гнетом принуждения, лишается свободы. Поразительные примеры рабских самоубийств (п. LXX) наглядно доказывают утвержденье, что «к свободе повсюду открыты дороги, короткие и легкие... Никто не может навязать нам жизнь, и мы в силах посрамить нужду» (п. XII, 10) Принуждение, неотвратимость казни рабство — вот те крайние явления в наблюдаемой философом жизни, которые даже смерть делают одною из обязанностей мудреца (п. I—ХХ, 5)
В вопросе о самоубийстве Сенека потому расходится с правоверным стоицизмом, что наравне с долгом человека перед собою ставит долг перед другими. При этом в расчет берутся даже такие незначительные для стоика вещи. как любовь, привязанность и прочие эмоции (п. CIIV, 4). Вообще, нравственные основы человеческого общежития занимают Се-неку — отныне законодателя вселенского государства — ничуть не меньше, чем правила нравственного совершенствования отдельного человека. Впрочем, и первое, и второе неразделимо друг с другом: «Связаны польза личная и общая, неотделимо достойное стремлений (т. е нравственная норма — С О.) от достойного похвалы (т.е. признания окружающих. — С. О.)» (п. VI, 10). Если же «достойное стремлений» не может снискать. общего признания, если сообщество людей единодушно лишь в заблуждениях и пороках (такое сообщество именуется у Сенеки «толпою»), то подлинное общежитие вообще невозможно. Среди современников Сенеки убеждение в том, что «нынешний век» порочен и что порча нравов погубила Рим, было всеобщим. Сенека идет дальше: он стремится показать, что порочность каждого делает невозможным не только государственное, но любое объединение людей. Самое обычное побуждение порочного человека по отношению к другому — погубить его; к этому подстрекают своекорыстная надежда, зависть, ненависть, страх, презренье. И здравый смысл — практическая мораль — учит не иметь «ничего примечательного, способного распалить чужую алчность», «не похваляться благами», «никого не задевать», быть кротким и никому не внушать страха, «поменьше разговаривать с другими, побольше с собою» (п. CV, 1—6). Но неужели этот свод правил, отлично резюмируемых Эпикуровым девизом «живи незаметно» и ведущих к взаимной разобщенности людей, был для Сенеки последним словом в его этике человеческих отношений?
К счастью, нет. Мы уже видели, что кроме эмоций, которые в XX веке были бы названы агрессивными, Сенека признает и другие: любовь, привязанность к ближним. И это не уступка рационалиста минутной умиленности, не дань традиционно-римскому культу семьи, какую Сенека отдал в «Утешении к Гельвии». Нет, чувство приязни к людям, согласно Сенеке, естественно и заложено в нас природой: «Все что ты видишь, в чем заключено и божественное и человеческое, — едино: мы только члены огромного тела. Природа, из одного и того же нас сотворившая и к одному предназначившая, родила нас братьями. Она вложила в нас взаимную любовь, сделала нас общительными, она установила, что правильно и справедливо, и по ее установлению несчастнее приносящий зло, чем претерпевающий, по ее велению должна быть протянута рука помощи» (п. XCV, 52). Это — основа конституции стоического вселенского государства или той «большей республики» Сенеки, которой служит человек добра. В ней все равны, ибо всем досталась душа — частица божества, а высокой она может быть и у римского всадника, и у раба (п. XXXI, 11). Не родословная, а величие души и делает человека благородным, «ибо она из любого состояния может подняться выше фортуны» (п. XLVI, 5), которая одна только и делает человека всадником или рабом. А если так, то нет нужды освобождать всех рабов: те из них, что благородны духом, сами возвысятся над рабством либо, если оно станет невыносимым, обретут свободу через смерть. Равенство в духе — вот что важнее для вселенского государства, чем конкретное социальное действие.
Но между безотрадной панорамой реальных человеческих отношений с их следствием — разобщающей моралью — и радужной теорией равенства в духе пропасть слишком велика, чтобы Сенека не ощущал ее. Философ, пытавшийся служить людям через службу государству, узнавший на этом пути и горечь компромисса, и боль от бесплодности усилий, не может, как бы ни был он разочарован в деятельности, не искать основ человеческого общежития менее умозрительных, чем равенство в духе. И он нс только ищет. но и находит их. Это — милосердие и благодеяние. Первое есть обязанность, налагаемая на нас уже тем, что все мы люди: «Человек — предмет для другого человека священный» (n.XCV,33). Но того же требует и жизненная практика. Если мы хотим этой добродетели от правителя государства, то и сами должны обладать ею по отношению к стоящим ниже — прежде всего к рабам (п. XLVII, 11). И далее аргументация в письме точно та же, что в трактате «О милосердии»: мягкость с рабами есть условие безопасности для владельца, позволь рабам говорить за столом, — и они будут молчать, когда твой обвинитель станет допрашивать их под пыткой.